Мария в чёрно-белой комнате |
В 1982 году австралийский философ Фрэнк Джексон сформулировал мысленный эксперимент, названный им Комната Марии. Читателю предлагалось представить себе Марию, учёную, занимающуюся изучением физических свойств цвета и его влияния на мозг и поведение человека. Мария живет и работает в черно-белой комнате, глядя на мир исключительно через черно-белый же монитор. Как о самом цвете, так и о его влиянии на человека она знает все: длины световых волн, тонкости нейрофизиологических процессов, в ходе которых заряженные фотоны, преодолев систему цветных глазных фильтров и добравшись до внешнего слоя сетчатки передают сигналы рецепторам мозга и о том, что при этом происходит в самом мозге. Она знает, какие его участки ответственны за обработку поступающей зрительной информации и какую роль в жизни человека играет умение различать цвета. Мария может поведать благодарному слушателю историю возникновения у приматов такого специфичного зрения. И почему, например, все двуногие больше всего оттенков различают в зеленом спектре. Или почему закат - красный, а днем небо - синее. Почему, заметив на ветке сочное спелое яблоко человек уже знает, что видит именно яблоко. Каким образом память - выращенные в течении жизни колонии из нейронов - помогают человеку моментально распознавать уже виденные им когда-то предметы. И как молочная кислота, накапливающаяся в мышцах глаза помогает мозгу определять размеры этих предметов. И как обладание светочувствительными клетками разных типов дает человеку преимущество перед прочими млекопитающими - цветное зрение. В распоряжении Марии - вычислительные мощности и доступ к любым базам знаний, накопленным человечеством. Но все это - графики и таблицы, изображения, формулы и окружающие ее предметы - только черно-белого цвета. На последнем этапе эксперимента Мария выходит из комнаты. Фрэнк задается вопросом: очутившись снаружи и впервые увидев все краски мира собственными глазами, узнает ли Мария о цвете что-нибудь новое? Добавит ли что-нибудь к ее знаниям личный опыт - переживание цвета? Комната Все началось в далеком 2011-ом году, хотя теперь я уже не уверен. Может быть, это был и 2010-й. А ежели разобраться, то много раньше. Примерно в те незапамятные времена, когда мне, с одной стороны понравилось разглядывать карты, а с другой - мерять Землю ногами или колесами своего велосипеда. Велосипед случился, наверное, раньше. Задолго до первого своего знакомства со способами наглядного представления географической информации. Году эдак в 1980-ом, тогда еще совсем детский. А карты появились, стало быть, позже, может быть на военной кафедре в институте, с которой я по старинной советской традиции спер то, что плохо лежало, а мне при этом жуть как понравилось, удивительный инструмент - Курвиметр. Для тех, кто не знает, это такая машинка с колесиком, с помощью которой командиры измеряют расстояние на карте. Колесико ползет по бумаге и накручивает сантиметры. Сантиметры переводятся в метры и километры в соответствии с масштабом карты. Все просто. В эпоху, предшествовавшую появлению Google maps, полезность этого инструмента переоценить было сложно. А на военной кафедре их было… как у дурака фантиков или даже чуть больше. Мы брали их из коробки перед началом занятий по овладеванию навыками применения топографии в условиях, приближенным к боевым, а после сдавали обратно. Но за количеством никто не следил. Высшее образование я получал, когда на дворе вовсю уже правили бал безбашенные 90-е и по этой, как видно, причине былого порядка в армии уж не было. Вот так и вышло, что один из классических атрибутов образцового советского офицера благополучно осел вначале в моем кармане, а затем в числе прочего домашнего барахла. И хотя, как можно было бы догадаться, никакого практического применения он в моих жадных до бесхозного добра руках так не получил, все же по сей день я бережно храню этот реликт безвозвратно ушедшей эпохи бумажных генштабовских карт, кирзовых сапог, брезентовых рюкзаков и палаток. Сколько воды утекло, пролилось дождем и ушло в землю за эти годы. Сколько нужных, ненужных, напрасно приобретенных, памятных - своих и чужих - вещей было выброшено, потеряно и раздарено. Но курвиметр, как талисман, как хлебная крошка, связывающая меня с моим и нашим общим ламповым прошлым - один из немногих переживших десятилетия артефактов. А карты, как паруса Крузенштерна с каких-то там пор замаячили в моей голове, маня в неизвестные дали обещаниями новых земель, дорог, впечатлений. С наступлением новой эпохи, распространением интернета, социальных сетей и интерактивного инструментария способы поиска информации и разглядывания модели Земли изменились. А мечты остались все те же. Штирлиц Я по-прежнему мог часами засиживаться, склонившись над картой мира, рассматривая дороги, проселки, тропинки, пересекающие леса, поля и болота своей необъятной Родины, а совсем уже потеряв голову - мечтать же не вредно - и некоторого зарубежья. Редкие поездки с друзьями, приправленные непродолжительными походами по ближайшим чаще всего окрестностям, да рассказы незнакомых людей в блогосферах о совершаемых ими путешествиях подстегивали и без того неугасимую жажду странствий. Пора великих географических открытий к каждому приходит, видать, в свое время. У каждого она своя, персональная. Открытия - они такие вообще, всегда очень личные. Вот сейчас на Земле не осталось уже белых пятен, но это не отменяет того простого факта, что сам-то ты еще ни разу не прошел одиночный поход, не побывал на северном полюсе или, к примеру, ни разу в жизни не видел медведя в его естественной среде обитания. Или не ел мяса с ножа. Того же медведя. Ну, тушенка, разогретая на костре тоже неплохо, ежели в первый раз и в особенности, если разложен этот костер строго там, где не бывала еще нога человека. Пусть и только того человека, кто поедает эту тушенку, утомленный многочасовым переходом и вконец осчастливленный раскинувшимся вокруг неизведанным. А неизведанного - его всегда в разы больше, чем знакомого и привычного. К нашей взаимной с ним радости. Так вот, в 2010-ом примерно году я, не помню какими уже путями наткнулся на рассказ о поездке, размещенный на просторах интернетов любителями оригинального отдыха - путешествий по старым узкоколейным железным дорогам на сборно-разборной легкой советской дрезине под незатейливым обиходным названием Пионерка. Могу только гадать, по какой причине родилось это название, видимо из-за того, что дрезина эта проедет там, где не пройдут, не проедут другие. И судя по опубликованному рассказу, эта версия недалека от правды. Товарищи путешествовали по берегам Северной Двины на УАЗе, останавливаясь время от времени в тех населенных пунктах, от которых отходили в стороны сохранившиеся усы узкоколейки. Извлекали из недр УАЗа свою Пионерку, пересаживались на нее и продвигались теперь уже по железке настолько, насколько позволяло состояние данной дороги. Возвращались тем же путем, загружались обратно в машину и ехали к следующему участку. Долго ли, коротко ли, но доехала эта компания до Авнюги, ничем особенно не примечательного населенного пункта, если бы не одно обстоятельство - узкоколейка, начинающаяся отсюда заканчивается в Поперечке - небольшом сельском поселении на берегах реки Сойга. Впадает эта река в Северную Двину, а вытекает из озера, расположенного в четырех километрах юго-западнее Поперечки - Соозерского озера. Места эти - медвежий угол, страна бескрайних лесов и торфяных болот. Как, впрочем и весь Верхнетоемский район Архангельской области - северо-восточный сосед района Устьянского - края такого же нехоженого, обильно насыщенного лесами, холмами, озерцами, болотцами да речушками, в северной части которого уютно и основательно примостился ставший уже родным Акичкин Починок. На рассказ этот обратил я внимание по двум причинам. Во-первых, одна из ветвей узкоколейки, связывающей Авнюгу с Поперечкой через развилку уходит дальше на юго-запад и заканчивается на обширных лесозаготовительных делянках уже на самой границе с Устьянским районом. А именно, слегка на восток от дороги, ведущей от берега Устьи мимо озера Светик дальше на север, все к той же Сойге. А это значит, что узкоколейка эта - что-то вроде связующей, хотя и заброшенной и частично разобранной нити между двумя районами. А во-вторых, на Соозерском озере, как мы уже где-то слышали, стоит заброшенный монастырь, основанный еще в первой половине 17-го века. И жилой поселок при монастыре, до сих пор носящий название Соезерская Пустынь.
Статья породила помимо вполне обоснованной человеческой и, не побоюсь этого слова, профессиональной зависти серию изысканий сразу в двух направлениях. С одной стороны, хотелось побольше разузнать о монастыре и посмотреть, конечно, своими глазами. С другой, рассказ о смелом, необычайном путешествии по железной дороге захватил мое воображение. Прилагаемые фотографии самих путей, практически до незаметности заросших травой и мхами, избушек непонятного назначения, платформ-полустанков на пути следования поездов, развилок, мостов и разъездов, болотных участков, брошенной под открытым небом и ржавеющей лесозаготовительной и железнодорожной техники, а самое главное - леса, бесконечно великолепного осеннего леса, усиливали произведенное впечатление. Моментально и навсегда захотелось оказаться где-нибудь там же, рядом с этой дрезиной, услышать перестук ее колес, разделить с ребятами место у костра, табачок, соль и воду, или что они там тогда пили, вдохнуть запахи преющих мхов и мокрой листвы и зажевать это все куском ароматного черного хлеба. И, конечно, привезти своих фотографий.
География духа В самом сердце равностороннего треугольника, образованного с юга Северной железной дорогой, а именно ее участком, протянувшимся от Коноши до Урала, с северо-востока берегами реки Северная Двина, а с северо-запада федеральной трассой М8, русло Устьи - притока более крупной реки Ваги - делает неожиданный разворот и меняет направление своего течения на девяносто градусов. Издревле здесь, на излучине, на высоком северном берегу у места впадения в Устью ее маленького притока Верюги жили люди. И когда славяне, продвигаясь дальше на север в поисках вольной жизни пришли в том числе и в эти места, их уже занимали местные племена: Чудь заволоцкая. Потомки ассимилировавших народов заселяли новые земли, распахивали непроходимые прежде чащи и вели торговлю по рекам. Традиционная культура финно-угорских племен вытеснялась постепенно более развитой и напористой славянской культурой, - языками и верованиями, - оставляя свою специфику разве что в характерном северном говоре, памятниках, особенностях архитектуры. Хотя и сейчас еще можно услышать отголоски тех дремучих времен в изустных сказаниях, небылицах. Таких, как, например, предание об озере Светике, согласно которому озеро это, образовавшееся на месте провалившейся, ушедшей под воду деревни было поначалу местом неспокойным, так что даже ложиться спать на его берегах не советовалось - по ночам из озера выходила корова, от оставшейся где-то на дне, видно, деревни и можно было слышать странные голоса. И только когда местный священник освятил это озеро, оно успокоилось. И получило с тех пор название Святик. Во времена освоения севера, в том числе и Устьян народ расселялся преимущественно по рекам, а водный путь через Северную Двину использовали для выхода к самому Белому Морю. Лихие людишки сбивались в ватаги, да баловались грабежом, уволакивая награбленное в удаленные лесные укрывища, и господского гнева особенно не опасаясь. От царя далеко, как у Христа за пазухой. Да и попробуй их, поищи по лесам да болотам. Старики бают, что именно так и возникла когда-то Соезерская Пустынь - разбойники, устроившие себе убежище на берегах Соозерского озера в окружении обширных болот и укрытые от справедливого наказания и ближайших магистральных путей более, чем сотней километров извилистого течения реки Сойги остепенились, осели, оставили прежде лихой образ жизни. Не иначе, как опасаясь гнева Господнего. От него ведь нигде не укроешься. И вот, в 1616 году не заставило себя ждать и чудо: неизвестно откуда явилась в селении серебряная икона Троицы, в честь которой уже в 1619 году была поставлена малая часовня и крест. И не только по причине того, что икона так и не сгорела в пожарах, случавшихся не раз в строении, в котором она в то время хранилась, но еще и потому, что меж приходивших поклониться чудесной иконе странников все чаще стали происходить случаи избавления от всяческих мучивших их недугов. Страждущие в болезнех милости прошаху, то вскоре исцеления приимаху. Вскоре слава о чудотворной иконе распространилась и далеко за пределы Соозерья и уже в 1636 году возведен был на озере первый храм в честь Пресвятой Живоначальной Троицы. А 1639 год называется в сохранившихся летописях годом основания Троицкой Соезерской мужской пустыни. Разбойники официально стали монахами. Что же до села Верюги (в наше время - Бестужево), то по преданию, именно на этом месте приблизительно в те же года, стало быть в первой половине 17-го века были обретены мощи самого, пожалуй, известного местночтимого святого Архангельской области, Прокопия Устьянского. Устья, по тем временам полноводная, судоходная подмывала год за годом берега и через Вагу и Северную Двину уносила дальше, к Северному ледовитому океану многочисленные свои находки. Но, то ли волею случая, а может быть и по промыслу Божьему неким весенним днем широко разлившиеся воды Устьи прибили к берегу льдину, а на льдине той - мощи в гробе затейливой работы, сплетенном наподобие колыбели из ивовых прутьев. В гробе обнаружилось тело, нетронутое тлением. Не только сам гроб, но и одежды усопшего и положение тела описывались позднее как нетипичные для обычаев данной местности, а источаемое им благоухание свидетельствовало о не подвергающейся сомнению святости. Потому выше на берегу, недалеко от места его обретения была воздвигнута и часовня в честь новоявленного святого, с поместившимися там же мощами. Начавшиеся вслед за этим чудесные исцеления среди паломников еще более уверили местных жителей в их первоначальном предположении. Вскоре, явившийся во сне благочестивому устьянскому земледельцу Савелию отрок повелел последнему изготовить себе новый гроб, сам назвал мерку и открыл свое имя - Прокопий, прибавив, что он - именно тот, чье тело недавно было обнаружено. Новый гроб пришелся Прокопию впору. И в срубленной заново церкви мощи выставлялись уже открытыми, неизменно продолжая удивлять прихожан благообразием и чудодейственной силой. Слава обретенного в Устьянах святого распространялась и в 1818-ом году было установлено повсеместное празднование его памяти, которое пришлось по новому стилю на 21 июля. Помимо церковного праздника с литургией, чтением акафиста Праведному Прокопию, крестным ходом, молебном в этот день в Бестужево проводилась ярмарка, на которую стекались тысячи людей со всей округи. Водным ли путем или пешим ли, по торговым ли делам, за чудом ли, от наказания, с покаянием, убегая от мира или в поисках вольной жизни, но век за веком тянется человек к русскому северу. Как часто на нашей земле возникновение тех или иных поселений, монастырей или просто поклонных мест связывают с явлением в этом месте чего-то необычайного, необъяснимого или с обретением какой-либо священной реликвии. Признавая как бы и намекая - смотрите, до чего благодатна наша земля - даже святые стремятся сюда попасть после смерти. Чудесами Господь зазывает, подает знаки, рассыпая хлебные крошки, что бы не заблудились души людские в лесу и пришли в нужное место. Как бы подсказывая - доброе это место, хорошее. И с этим трудно поспорить. До 1913-го года только наиболее значительных, выдающихся случаев исцеления среди паломников, пришедших прикоснуться к мощам праведного Прокопия было записано в нарочную книгу 44 штуки. А если к их исцеляющей силе и силе молитвы прибавить еще и чудодейственный лесной воздух, воду, целебные травы, ягоды, красоту, синеву неба... Богоборческие отряды в 1939 году предали огню останки святого, но места силы, как говорили в язычестве, - леса и поля, реки - остались. А главное - тишина. Такая, что по ночам, когда затихают все дневные звуки - голоса людей и собак, стук топора и скрип дверных петель, уши закладывает. Так может быть, только в такой тишине, когда все лишнее умолкает и можно услышать внутренний голос, голос со-вести. Так через молитву только от видимого к невидимому душа то дойти может. А разве же может быть духовная жизнь без внутренней тишины, а внутренняя тишина без тишины внешней? Может быть порядок в делах без порядка в голове и предметах? Правильно монахи удалились в самую глубь многокилометровых болот, в такие непроезжие дебри, что и в 21-ом веке немного найдется ужаленных искать дорогу в эти места. Эти трудности - дополнительная преграда на пути суеты, рвущейся из окружающего нас мира, а тишина, единение с самим собой и природой - награда в конце пути. И начало нового человека, единого, целого, не дробящего свою душу на мелочи. Ведь только такой человек может не растеряться и подойти ко встрече с нежданным, неведомым. Легенда Куда бы мы ни пошли - возвращаемся со стороны Сметаны Если от устья Верюги подняться вверх по течению километров этак на 12, то не поворачивая сразу на мост, на левую сторону от дороги, через поле, поднявшись на самую горку, можно увидеть деревню Илясово. Полное ее название - Андреев Починок и это первая из трех верюжских деревень. Следующая - Коромыслово, Акичкин Починок. Расположена на соседнем холме, на противоположном берегу Верюги. И, наконец, крайняя - Фомин Починок, прозванный в народе Сметаной. От Акичкино до Сметаны еще около четырех километров. Эта троица деревень - своего рода Последний Домашний Приют на пути странника, вознамерившегося пройти дальше на север от Устьи, форпост на границе с дикой природой, самое северное из обжитых мест в Устьянском районе. Дальше - тайга, бескрайнее хвойное море, пронизанное ручейками, речушками, обильно сдобренное торфяными болотами, ледниковыми озерцами с водой темно-чайного цвета, мшистыми пустошами. На иных из них, заболоченных - разнотравная хлюпающая трясина и жирная, густая грязь черного цвета, кочки, усыпанные брусникой и клюквой, паутина, пушица, росянки и мокрые корни растений, уходящие во влажную торфяную глубь - настоящую Кладовую Солнца. На других, высушенных песчаниками и летним зноем - шапки мхов нежно-зеленого цвета, хрупкие, ломкие и изящные, как кораллы, метровые муравейники, осыпавшиеся иголки и шишки. Грибы здесь часто растут прямо на мхах, едва цепляясь тонкими ножками за поросль сфагнума, ковром устилающего леса и болота. Сфагнум, к слову сказать, тут повсюду. Он затягивает озерные берега, постепенно превращая таковые в болота, оставляя лишь небольшие окошки - незначительные пространства все еще открытой воды, как правило строго посередине. Он нарастает год за годом сверху и отмирает снизу, слеживаясь, сминаясь в плотную массу, которая под давлением слоя новых мхов и воды становится торфом, отчего вода в здешних болотах, равно как и в реках, берущих из них начало непередаваемо вкусная, а чай, заваренный на такой воде не нуждается в специальной заварке - профильтровать как следует воду, набранную в прямо в болоте, избавив ее от плавающих в ней частичек мха просто-напросто невозможно. Вот и получается, что такое устройство природы не только одаряет человека богатствами в промышленном смысле, но и предоставляет все необходимое путешественнику: насыщенную питательными веществами, вкусную воду, рыбу, грибы, ягоды. Так, что отправившись в лес о пропитании можно особенно не беспокоиться и воду с собой не тащить, а постель, выстеленная поверх мягких кочек густым еловым лапником вытянет за ночь всю усталость и с легкостью унесет в страну лесных ароматов и снов. Если правильно выбрать манеру движения, то для пеших походов такая дремучая мшистая местность представится весьма удобной - не нужно только прыгать по кочкам, рискуя сломать себе ноги в многочисленных, но невидимых провалах, ямках в корнях деревьев. И приноровившись к несуетливому, плавному ритму, оставляющему время на созерцание величавой окрестности, погруженного в тишину леса, с глубоким и ровным дыханием, вдумчиво выбирая дорогу по мягкой подстилке, можно пройти многие километры, врачуя самого себя на ходу радушно разбросанными тут и там ягодами - яркой хрустящей брусникой, сочной черникой, терпкой, хотя и редкой морошкой - да влажной лесной атмосферой. А хождение босиком по пружинящему растительному матрасу торфяного болота снимает усталость с натруженных ног, наполняет новыми силами. Дороги здесь, как и реки переплетаются самым причудливым образом. Большая их часть проложена и используется для вырубки и вывоза леса. По некоторым другим крестьяне в советские еще времена вывозили сено с покосов - колхозные поля засевались, вокруг деревень сена всем не хватало, вот и находили полянки в лесу и там косили. Прорублены были когда то и просеки, но сегодня чаще всего их можно опознать разве что по потемневшим, заросшим квартальным столбам и верхушкам деревьев. Да еще по тому, что юные елки, по неведомым каким-то причинам именно на старых просеках разрастаются как-то особенно плотно и весело. Аккуратненько по колее. Так что, это верный признак - если в лесу видишь особо плотные заросли ельника, вытянувшиеся по линейке - скорее всего здесь и была раньше просека. Соваться в такие заросли не имеет особого смысла, и как правило путь в обход этих просек оказывается гораздо более легким, даже если идти приходится совсем без дороги, лишь краем глаза придерживаясь их направления. Впрочем, хватает в лесу и тропинок и среди них не найдется, пожалуй что, тупиковых и лишних - все они используются для дела - или ведут на болота, за ягодой или же, разливаясь в более накатанные и широкие, проезжие даже по летнему времени трассы, служат для сообщения между населенными пунктами. По легенде, верюжские Починки были основаны тремя беглыми то ли каторжниками, то ли разбойниками - Андреем, Фомой и Акимом около 250-ти лет тому назад. Оседлав три вершины соседствующих друг с другом холмов, эти деревенские выселки разрастались, окружая себя расчищаемыми от леса полями, число дворов все росло и росло, в годы советской власти построена была и дорога. Здесь были колхоз, молочная ферма и приличное поголовье коров. Молоко отвозили в Бестужево, на маслозавод. Пока в конце 90-х окончательно не развалился мост через Верюгу, транспортное сообщение было и со Сметаной - крайней деревней в Устьянском районе. Теперь одни лесовозные трассы соединяют его с соседним, Шенкурским районом, группа деревень в самой южной части которого - Монастырская, Носовская да Шахановка - отстоит (по прямой) от Сметаны на 25 километров. Да только по прямым здесь не ходят, а дорожная сеть зачастую представляет собой натуральную сетку, опоясывающую квадраты леса, которые как клетки шахматной доски ложатся направо - налево от основных магистралей, а углубляясь в квадраты, распускаются веером, как прожилки на листьях, расходятся в стороны следами трелевочников и прочей диковинной лесозаготовительной техники. Потому, когда смотришь на спутниковые фотографии, то видишь посреди темно-зеленых лесов участки чуть менее темные - старые, уже зарастающие выруба и квадраты совсем еще светлые - места недавней вырубки. Такими квадратами испещрена вся карта Архангельского Междуречья - угла, образованного Северной Двиной и ее притоком Вагой, по крайней мере в той ее северной части, что не захвачена еще сплошными болотами. И эти вырубки леса - хорошие ориентиры для путешественника, а дороги, их связывающие - единственный способ перемещения по обширной территории области, по крайней мере в летнее время. В такие-то вот места и тянет меня нелегкая год от года. Живая, текучая вязь темно-зеленых рек и притоков, прячущиеся под древесными кронами песочные извивы лесных дорог, смелые и решительные, почти что белого цвета росчерки открытых магистральных участков, темные лесные озера, пялящиеся на тебя своими округлыми дырами, провалами в другое пространство, пестрые шашечки вырубов, наглые, титанические мазки светло-зеленого - болота, словно пробы пера выжившего из ума великана, все это смеется, глядя с экрана, не стесняется своей первозданной силы, бескрайности, ухмыляется, ждет. И словно бы предлагает - приходи и бери. Ежели не побоишься. Задумаешь и не отступишь. Не уходит из головы, очаровывает. Подобно Марии из комнаты несчетное множество раз пробегал я глазами по этим дорогам, надеясь понять по их усталости, хватит ли у меня сил на практике проехать эти участки, оценивая расстояние линейкой, планируя, примеряясь, чертя на карте маршруты. Проходя, проезжая путь мысленно. В воображении моем рисовались то пыльные накатанные дороги, то влажные, комариные тропы, то жар и скорость велосипедной поездки, то неторопливость и планомерность пешего перехода с ночевками у костра, тушенкой и хлебом. У каждого из вариантов были свои преимущества. Веломаршрут можно было прокладывать только по хорошим дорогам, зато и расстояние заложить большее. Пеший способ перемещения требовал большего времени, но зато и нести на себе вещи было бы как-то привычнее, чем везти их на велосипеде, и проходить такой маршрут мог бы такими местами, в которые колесному транспорту путь заказан. Да и доставка велосипеда туда и обратно - вопрос отдельный. Человек с одним рюкзаком все-таки гораздо мобильнее. И все же надежда добраться самостоятельно и за обозримое время в Соезерскую пустынь взяла на какое-то время верх над остальными моими надеждами и поэтому в августе 2016 года стрелка весов помялась, помаялась, встрепенулась, повела из стороны в сторону капризной своею головушкой, качнулась в последний раз и утвердительно успокоилась на отметке с надписью велосипед. Долгая дорога на север Жарким июльским вечером в лето 2016 года Чичик, мой товарищ и одноклассник (сетевой ник Iehuby) дописал свой рассказ про поездку на родину почтальона Тряпицына с целью половить, значит, рыбки, запостил сообщение об этом рассказе в Facebook и мы поспешили забраться в машину, чтобы поскорей улизнуть из столицы и на ночь глядя отправиться с запланированным в последний момент визитом в родимый уже Архангельский край. Ведомый, помимо известных планов желанием посетить расположенные по пути Кирилло-Белозерский монастырь и музей Дионисия в Ферапонтово, Серега предложил выезжать вечером. Нам светил дальний маршрут и приличный завиток по пути, поскольку Кириллов находится в стороне от торной дороги на север, федеральной трассы М8. Бонусы, получаемые засчет такого крюка, однако, обещали быть более, чем оправданными, а потому в первом часу ночи мы успешно отъехали. Отношение мое к многочасовому сидению в коробке размером где-то два на четыре, мягко говоря, не слишком уж положительное. Ни в какую не соглашаясь с общепринятой мудростью, сконцентрированной нашим народом в выражении Лучше плохо ехать, чем хорошо идти, организм мой, оказавшийся в западне, запертый в автомобиле, раз и за разом выпадает в осадок, болеет и всячески не приемлет подобные методы провождения времени. Он начинает искать свободы и выхода, пространства, движения. Взгляд, вперенный вдаль, монотонная качка, шуршание колес по дороге и абсолютное, вынужденное безделие погружают мой мозг в какое-то отупевшее состояние, напоминающее чем-то похмелье, беспамятство. Держание рук и ног в неподвижности на прокрустовом ложе сиденья становится предметом специальных усилий и даже особый комфорт современных транспортных средств не в состоянии скрасить претерпеваемых мною мучений. И, что самое удивительное, нелюбовь эта не разделяется ни одним из моих знакомых, а неизбежно накатывающий тяжелый сон, в одном котором, как видно загипнотизированное дорогой сознание ищет хоть какого-то успокоения вызывает у водителя и попутчиков только улыбки, а порою и некоторые, не всегда немые вопросы. Составленый план движения проходил непроторенными еще путями в обход основных магистралей. Время мы, как и всегда коротали за разговорами, чтением смешных указателей, интересных названий поселков, разглядыванием карты, ожиданием нужного поворота, сетованием на отсутствие стабильной сотовой связи, разгрызанием сухариков и орешков, наблюдением за темнеющим поначалу, а после светлеющим горизонтом, попытками угадать время прибытия в ту или иную точку маршрута, моими попытками не уснуть, прослушиванием музыкальных треков. Выбор аудио- сопровождения, кстати, для меня всегда является предметом особого подспудного интереса. Никогда заранее не угадаешь, что же на этот раз захочет послушать водитель. Каким законам и факторам подчиняется этот выбор. Настроению или погоде, компании, времени суток, степени выспанности, видом за окном, наконец. И эволюция музыкальных вкусов, конечно. Для нас, например, по дороге на север лет десять назад много играла Алиса. Позже - Высоцкий. Теперь это чаще что-то спокойное, джазовое. Хотя и сегодня в эту идиллию, в этот респектабельный и интеллигентный, как нынешнее авто владельца, в этот размеренный фон запросто может ворваться внезапным наскоком бешеное сердцебиение Motorhead. Ночная ли пора стала тому виной, но по пути к Ферапонтово играло, кажется, тоже что-то спокойное. Прибытие в монастырь-крепость Кириллова пришлось аккуратно к открытию времени посещений. Побродив под стенами, полюбовавшись на уток и озеро мы добросовестно обошли галереи на стенах, многочисленные храмовые построения. Кириллов сегодня - музей. Таблички, разметка, сувенирные лавки и указатели, экскурсионные толпы намертво убивают ту особенную атмосферу, за которой приходишь в обитель. Так, что даже наличие большого, кажется, количества денег, выделяемых на реставрации и собираемых от той же самой музейной и прогулочной деятельности помогает сберечь конструктивное состояние памятника архитектуры и только. Со стенами, дверями и окнами с новыми деревянными рамами все здесь в полном порядке. Дух, к сожалению, выветрился. Посыпаны дорожки песком, выложены местами булыжниками и огорожены лентами. С запрещающими надписями, конечно. Задержались мы ненадолго. И в 10 часов утра были уже в Ферапонтово. Принявший постриг Ферапонт Белозерский, удалившись от мира и пришедши на север вместе с соратником, с другом Кириллом место для будущего монастыря выбрал не в пример удачней последнего. На горке, на берегу окруженного соснами озера в 1398 году положил он начало теперь уже всемирно известной обители. Первая деревянная церковь во славу Рождества Богородицы построена была разросшейся братией уже в 1409 году, но известен монастырь Ферапонта позднейшей, каменной версией. Именно в этом соборе в августе 1502 года работал над росписью один из самых известных русских иконописцев, Дионисий московский. Фрески, сотворенные его руками и руками его сыновей до сих пор украшают стены и внутренние поверхности куполов. Храмовый комплекс считается одним из наиболее сохранившихся среди церквей Русского Севера, а уникальная по своей красоте стенопись - единственной дошедшей до наших дней работой великого мастера. Каких-то 20 км по дороге отделяют один монастырь от другого. Небольшая, казалось бы разница. И огромная, если задуматься о той роли, что сыграли эти монастыри в русской истории. Кириллов - оплот православия, опора Московии, важнейший стратегический пункт в продвижении Московского государства на север, в вольные Новгородские земли, в Заволочье. Крепость, в Смутные Времена выдерживавшая многомесячные осады войск западных интервентов, символ и средоточие русской силы и веры. Меч в руках государства, которому не раз приходилось на деле отстаивать нашу с вами, его независимость. На долю же Ферпонтова выпало донести до нас Слово, высказанное в удивительных образах настенной росписи, обращенное к нам, потомкам тех русичей, пережившее те же страшные годы безвластия, бережно сохраняемое для нас реставраторами. В том числе и учениками 52-ой школы Москвы, между прочим. Простота без пестроты, лестница в небо, окошко в другую реальность, светлое и широкое - вот каково Ферапонтово. Возвышающееся на горке, на чистом, открытом месте. Не затоптанное ногами туристов, с теплыми солнечными коридорами, деревянными балками и желанием заломить шею повыше, за ради встречи со взглядом, обращающимся к тебе оттуда. Даже сувенирные лавки здесь расположены строго за стенами, у дороги. Кесарю - кесарево. Мы с неохотой покинули это место. Но как и 600 с лишним лет тому назад московских монахов дорога звала нас дальше на север, а время уже приближалось к полудню. Захватив с собой фотографии и набор глиняных чарок работы местных ремесленников, мы уже после 12 часов дня проехали Вологду и к восьми часам вечера были в Акичкино. А впечатление, полученное в Ферапонтове стало еще одной драгоценной жемчужиной, нанизанной на ниточку памяти с отметиной август, 2016-й. Родом из детства Опять скрипит потертое седло и ветер холодит былую рану Отношения наши с великом начали складываться в весьма раннем возрасте. И это не было даже вопросом выбора. Просто все школьники и дошкольники в моем детстве катались летом на велосипедах. Это не обсуждалось. Все мечтали о велосипедах. Как, например, о рыбной ловле, поездках за ягодами и грибами, миниатюрной железной дороге, лыжах с пластиковым покрытием или хорошей хоккейной клюшке. Во время летних каникул я, как выкатывался утром на велосипеде, так только вечером и возвращался. Иногда с перерывами на забежать - молока - выпить. И сразу обратно. Что мы делали весь день на велосипедах? Сейчас даже и не соображу. Да все. Мы просто с них не слезали. По вечерам во время школьных каникул показывали интересные фильмы и к 19:30 приходилось возвращаться домой. А так бы, наверное, в темноте возвращались. Это были бесконечные наматывания кругов по давно известным кварталам, полям, перелескам. А иногда и исследования новых земель. Тогда мир казался огромным и даже прилегающих территорий хватало, что бы устроить себе приключение. Да, масштабы были другие. Но главное, что с тех самых пор железный конь удобно и основательно прирос к пятой точке, стал продолжением собственных ног и привычным способом передвижения по планете. Иногда я даже не знаю, что для меня естественнее - перебирать ногами прям по земле или по железным платформам педалей. Движение-то, если задуматься, одно и то же. Особенно, когда идешь-едешь по пересеченной, скажем, корнями деревьев лесистой поверхности. Потихонечку-полегонечку, шаг за шагом.
Если вас угораздило родиться и вырасти где-то среди бескрайних просторов, безусловно, великого, прекрасного и приятного, по крайней мере для счастливого детства, Союза Советских Республик, то наличие собственного колесного транспорта, когда вам только лет 9 успело исполниться, являлось для вас предметом особенной гордости и видимым атрибутом взросления. Пистолеты - игрушечные, настоящие есть только у любимых героев экрана. Шпага, конечно же, деревянная, вырезанная из куста, растущего где-нибудь в овраге, за школой. Окоренная, с гардой из пластмассовой крышки для банки, в которых обычно заготавливают на зиму варенье. Крышка выклянчена у бабушки, в ней проделана дырочка, - не слишком большая, что б не соскальзывала, - вуаля! Самодельная гарда нанизана на клинок и отныне бережет твою руку, крепко сжимающую безжалостную к врагам Короны холодную, верную сталь. То есть, дерево. Теперь берегитесь, канальи. И не до конца возведенные стены полузаброшенных многоэтажек, детских садов и прочих классических долгостроев не так уж и отличаются от стен Ла Рошели, а неизбежные на стройке канавы - от средневековых крепостных рвов. И хотя очень грустно, что в очередной раз закончилась последняя серия Мушкетеров, впереди еще пара месяцев летних каникул, свобода, компания верных и близких товарищей, а в телепрограмме на следующую неделю - уже заветные Приключения Электроника и никаких тебе школьных уроков. И поэтому - взлетали и падали рубящие удары почти настоящей шпаги, прыжки переносили со стены на стену, липли волосы на вспотевшие лбы и встречала на следующий день еще одна беззаботная бесконечность. Советское детство. Мамы и бабушки не боялись выпускать нас на улицу. Специальных центров для развлечений в те времена еще не было, и поэтому ежедневные порции приключений на свои неуемные задницы нам, сорванцам младшего школьного возраста приходилось разыскивать самостоятельно. И мы их находили. Повсюду. Мир был полон загадок и нежданных открытий. И действительно, яма, выкопанная во дворе исчезнувшими сразу же по завершении таинственными строителями - не обычная яма, а скалодром, как сейчас бы сказали. V-образные скобы, согнутые из обшелушенных электродов, позаимствованных на стройке превращаются в скальные крючья, навешиваются пачкой на пояс, засовываются в карман и начинается восхождение. С самого дна, по отвесной стене из плотной коричневой глины. Потом крючья выдергиваются и все начинается заново. Тренировка на целый день. И рядом - опять же, товарищи. Не хуже, чем в Вертикали с Высоцким. И яма, что самое главное, не охраняется. Нет осуждения со стороны взрослых. Никому и в голову не приходит, что это небезопасно. Объекты строительства, надо сказать, для мальчишек середины 80-хх вообще являлись главным источником нескончаемых радостей. Источником электродов, находившим самое разнообразное применение, селитры, гудрона, мелкашек - строительных таких патронов, зловещих подвалов, крыш, коридоров. Мы обследовали эти подвалы, прыгали с крыши на крышу, рискуя свалиться с высоты этажей этак в десять, тащили, что плохо лежит, особенно если это что-нибудь взрывоопасное. Современные дети не знают, но если в бутылку из под шампанского налить немного воды, добавить селитры и закупорить поплотнее, то при ударе о бетонную, например, плиту такая бутылка взрывается не хуже тех, которыми отцы наши и деды поджигали немецкие танки на полях Великой Отечественной. А деревянная бочка с гудроном, забытая кем-то на поле полыхает как бешеная на протяжении многих часов и столб копоти в безветренную, как нарочно, погоду подымается так высоко, что кажется, все пожарники в городе его давно уже видят и скоро заявятся. Но ты все равно не уходишь, прикованный невероятным зрелищем катастрофы - жаркого красного пламени, исходящего плотными клубами черного дыма. Во время летних каникул мы катались в строительных люльках, на велосипедах, зимой - на коньках, весною - на льдинах, а когда мне было еще только 5 лет, я катался в кабине знакомого бульдозериста, пока тот работал, и таскал для него проволоку из дома, с целью починки сломанного механизма стеклоподъемника. Мы дружили с рабочими, а иногда стреляли по ним же рябиной из самодельных, конечно же, самострелов, скрываясь в спасительных зарослях и ощущая себя настоящими то ли разведчиками, то ли индейцами. Самострелы изготовлялись из дощечки и бельевой прищепки с резинкой. Это был простой, безотказный и убийственный метод, а зерна рябины в летнее время - твердые, как горох. Попадание таким снарядом нельзя назвать слишком приятным. А времени у нас, неуловимых мстителей, было достаточно и практиковались мы с парням на совесть. В нашем Сафонове, маленьком городке, в котором безоблачно протекало мое неторопливое детство, в середине 80-хх строек было навалом, тут же, в черте, располагался Стройбат и жителей Средней Азии, отбывающих срочную службу в рядах вооруженных сил СССР частенько можно было увидеть работающими на этих стройках, а иногда и бестрепетно загорающих где-нибудь на солнышке, под забором в непосредственной близости от вышеозначенной. И жители эти вдоволь наслушались моих незатейливых детских вопросов, рассказов, а иные из них сполна ощутили всю силу, всю славу оружия босоногого русского воинства - неспелой рябины.
Каждый ребенок завидует старшим, старается получить новый опыт, побыстрей повзрослеть. У взрослых, кажется, больше возможностей, они настоящие, самостоятельные и реальные. И тебя это желание настигает своим чередом, ты выходишь из школы, успеваешь сменить ряд занятий, мест жительства, многому научиться, пережить, перечувствовать и перемениться. Ты уделяешь все время работе, профессиональному росту. Чем серьезней - тем лучше. Все выше и глубже и ширше. А к 30-ти неожиданно понимаешь, что детство как-то слишком быстро закончилось и ты так же истово, как до сих пор стремился от него оторваться, начинаешь искать с ним новые связи. И это большая удача, когда эти связи появляются вовремя рядом, в виде детей, уже своих собственных и так получается, что как раз в то самое время, когда им приходит пора осваивать двухколесные велики, без мелких опциональных помощников, тебе уже становится мало семенить где-то сбоку, для поддержания и для подхвата, тебе уже хочется так же ехать, участвовать. Переосмыслить. Вернуться. Вспомнить внутреннего ребенка, передать ему управление. Отпустить погулять, ведь у него в кои-то веки появилась такая подходящая, замечательная компания. И ты отпускаешь, махнувши рукой на взросление, на личностный рост, на становление, на карьеру (слово-то какое дурацкое). Понимаешь, что играть со своими детьми, по новой исследовать мир, сверяясь с их взглядом, разделяя эмоции, знания, составляя общее с ними мнение, маленькими шагами осваивая пристрастия, перепроходя известные территории, разукрашивать глобус своей личной планеты, создавая собственный мир, новое языковое наречие - интереснее, чем изучать программирование, общаться с коллегами, сверстниками или просиживать на совещаниях. Ты меняешь свой график работы и в первую очередь становишься взрослым ребенком, старшим товарищем в играх и лишь во вторую - кормильцем и каким-то вынужденным специалистом. Ты получаешь как бы еще один шанс. Призовую игру. День проводишь с семьей, вечера - на работе. Казалось, кино уже кончилось и начались длинные титры. И тут терпеливому зрителю показывают продолжение - там, после титров, как выясняется - еще целый сиквел. И приквел. И еще одно продолжение. И так - насколько хватит фантазии. Потому что теперь уже все осознанно и ты, если захочешь, сможешь играть в эту игру бесконечно, переходя от уровня к уровню.
День первый – Мили здесь никем не меряны, — отозвался Колоброд. — До «Забытого Приюта» от Брыля день пути. А дальше… Разное говорят. Дорога туда странная. Когда идешь по ней, думаешь только о том, чтобы дойти. В милях её не считают. Ранний подъем утром 3 августа не принес облегчения. Плотно, надежно укрытое небо с подоткнутыми уголками без зазоров и трещинок насытилось влагой и тучами, пролилось на землю дождем, пропитало вчера еще по-летнему пыльное полотно грунтовой дороги миллионами мелких капель, превратив её в ленту чавкающей под подошвами, раскисающей манной каши и положив тем самым конец последним надеждам на легкое блиц-путешествие в Соезерскую Пустынь. Выполнимая, относительно простая задача на глазах превращалась в сумасбродную, безответственную затею так же, как твердая, прямая дорога - в реку из расползающегося песка, не оставляющего шансов на быстрое, уверенное передвижение. План путешествия, основанный по большей части на хорошем знании местности, природных условий и географии Устьянского края, собственных туристических навыках, спортивной форме и снаряжении, умении пользоваться навигационной техникой и комфортно чувствовать себя в условиях дикой природы базировался тем не менее и на некоторых допущениях, главными из которых являлись: А - Сухая погода В - Существование и проезжаемость всех выбранных по спутниковым снимкам дорог С - Существование регулярного движения поездов от ст. Поперечка до ст. Авнюга На тему дорог поподробнее: 1 Наличие пригодных для велосипеда дорог, связующих между собой недавно открытые вырубки на севере от Акичкино со Студенецкой лесовозной трассой, тянущейся с юга на север на восток от Сметаны. Вывоз леса из окрестностей Акичкино и болота Круглое начался недавно, всего год назад и полной уверенности в том, что новые кварталы уже связаны перемычками со старыми, более северными у меня не было. Да и дороги дорогам - рознь. Спокойно передвигаться на транспорте можно лишь по отсыпанной, укрепленной гатью дороге. Прочие же пригодны только для специальной тяжелой техники - тягачей и бульдозеров. Многие из них даже не всегда раскорчеваны. И в этом смысле даже свежим спутниковым снимкам верить можно только с некоторой осторожностью - отсыпанная, проезжаемая дорога в сухую погоду из космоса выглядит так же, как неотсыпанная. 2 Проезжаемость на велосипеде северными, относительно старыми вырубками, раскинувшимися между Студенецкою трассою и дорогой, идущей от поселка Глубокий на реку Целюгу. Кварталов там много, но снимки преимущественно старые и никто из нас ни разу там не бывал. Существует и еще более северная дорога, тянущаяся с запада на восток параллельно запланированному мною пути от пересечения Студенецкой дороги с рекой Куболой на западе до все той же Целюги на востоке. Этот более северный путь был пройден нашей компанией на УАЗе летом 2013 года и в его проходимости не существовало сомнений, однако прибегнуть к нему означало увеличить общее расстояние поездки десятка на 3 километров, а по времени я был весьма ограничен, т.к. прибыть в конечную точку маршрута было необходимо никак не позднее 17:40 пятницы, 5 августа, т.к. именно в это время из Поперечки отходит поезд на большую землю, в поселок Авнюга, расположенный на берегу Северной Двины, откуда уже я планировал ехать машиной до Котласа. Другого простого пути из Соозерья на Двину нет - проглядывается там любопытная одна дорога, идущая по северному берегу Сойги, но местами она не то исчезает под кронами высоких деревьев, не то совсем исчезает. Теоретически она существует, но я понимал, что времени и сил на ее исследование после прибытия в эти места из Акичкино у меня скорее всего не будет. И что при наличии регулярного железнодорожного сообщения местное население такой дорогой не пользуется, особенно в летнее время - я понимал тоже. Совсем плохим вариантом на случай отсутствия поезда мной рассматривалась обратная дорога в Устьянский район, через Глубокий в Бестужево, но он потребовал бы немало времени и усилий, не говоря уж о том, что не представлял бы собой никакого исследовательского интереса, так как этот маршрут много раз уже езжен, и в летнее и в зимнее время. Запасы продуктов на всю поездку, кстати, у меня тоже были весьма ограничены. Так что, кровь из носу, а нужно было обязательно поспевать к поезду, исследование же прочих дорог оставить на будущие поездки. 3 Путь от Целюги до Соезерска не вызывал особых сомнений, но сами мы проезжали там только зимой и не совсем до конца. Впрочем, на всю дистанцию у меня были заранее закачаны спутниковые снимки на телефоне и проставлены точки предполагаемых поворотов на навигаторе. И хотя, пользуясь двумя этими приборами и записывая параллельно маршрут я планировал избегать случайных ошибок и не тратить лишнее время на заведомо тупиковые усы и маршруты, уверенности в том, что сегодняшнее состояние дорог соответствует их виду со спутника на все сто процентов не было. Не всегда то, что хорошо выглядит на бумаге осуществимо на практике. И вот теперь, после такого неприятного поворота погоды на пункте А был поставлен окончательный жирный крестик, пункт B многократно усиливался вопиющим знаком вопроса, предательски вытекающим из предыдущего пункта, пункт C маячил же где-то далеко впереди, так как в условиях изменившихся первых двух пунктов становилось просто уже не до беспокойств из-за поезда. Другими словами, непосредственно в утро отъезда сложилась вдруг та ситуация, для обозначенья которой в русской традиции зарезервировано ёмкое слово жопа [6]. Лишь небольшую уверенность в благополучном достижении обжитых мест, могущих вывести меня в дальнейшем и к поезду в Котласе внушал официальный ответ, полученный мною от администрации муниципального образования “Верхнетоемский муниципальный район” на мой запрос расписания движения поезда Авнюга-Поперечка и отправленный им через форму на сайте. За что отдельное им человеческое спасибо. Справки ради добавлю, что по пути в Соезерск один из отворотов дороги ведет на старую вырубку, на которую с противоположного края, востока, приходит старенькая узкоколейка, фигурирующая в приведенном мной выше рассказе о путешествии на Пионерке. Приходит, да там и кончается. И по свидетельствам написавших рассказ, некоторая заброшенная железнодорожная и лесозаготовительная техника стоит на тех вырубах до сих пор. А самое главное, дорога эта - прямой пешеходный путь в Соезерск или дальше, на Авнюгу. Данная область Верхнетоемского района - тот же непаханый край для походов, что и Устьянский, но пробраться в него не так уж и много возможностей. Одна из них - узкоколейка. Есть еще грейдерная дорога, проходящая через Квазеньгу, Кидюгу и далее к Двине, в Черевково. От нее ответвляется отворотка, приходящая в том числе в Авнюгский Починок - глухомань почище Акичкино - а это уже совсем близко к узкоколейке. Проработать, пройти и замкнуть маршрут по этим дорогам - еще одна замечательная возможность увидать мир вблизи, войти в мир с собой и еще один шаг на пути возможных персональных открытий. Друзья отбывали до дому, мне предстояла главная часть путешествия. Как опоздавший на поезд еще какое-то время мнется, задумчиво глядя вдаль, лелея пустую надежду, не в силах поверить в совершенную им оплошность, так я еще до полудня слоняюсь по дому, окрестностям, периодически выходя на дорогу, глядя на небо в ожидании заветных просветов, напоминая самому себе персонажа известного анекдота: “Давайте закроем все окна, а потом снова откроем. Не поможет - выйдем все из машины, а потом опять сядем”. Но многократные входы в дом и выходы на крылечко не меняют унылой картины. Помогая консервировать базу на зиму, оттягивая до последнего переодевание, сборы и выезд ко 12-ти часам дня все же смиряюсь и понимаю, что ждать боле нечего и если решил все-таки ехать, пора уже выдвигаться. Путь же не близкий. И мне, по-хорошему, надо сегодня одолеть половину, неизвестно еще, что будет с погодой дальше. Да и Львович уже потихонечку нервничает. Всё-таки я идиот. В биологическом смысле. В систематике живых организмов я бы легко нашел себе подходящее место. Где-то в отряде безнадежно-помешанных, в семействе идиотов упорствующих. Принадлежность же к виду меняется в зависимости от погоды, времени года, текущего рода занятий. Только сейчас, оседлав велик я чувствую, как же не хочется ехать. Какой немыслимый, безрассудный план я составил. Дорога расползается под колесами, я с трудом забираюсь в первую горку, к Акичкино. В сознание все настойчивей толкается мысль развернуться и заранее признать поражение: объективные обстоятельства, погода подложила основательную свинью, никто не осудит. И только врожденное сумасбродство заставляет крутить педали, не менять направление. На глазах ошарашенной публики миную деревню и углубляюсь в лес по дороге, ведущей на новые вырубки. У местных праздник сегодня, в кои-то веки в их отдаленной губернии цирк - клоуны на колесах, в обтягивающих коротеньких шортах, легкомысленной маечке, обвешанные футуристической техникой. И все это под дождем, под хмурыми тучами. Явление редкое, тем более ценное. Враз окосевшие взгляды и задумчивые выражения лиц провожают промелькнувшее чудо и, вздохнув пару раз, возвращаются к повседневной работе. В сапогах, куртках, длинных штанах по погоде. Какой же я все-таки идиот. Выбираюсь на гать. Прыгать по бревнам не очень удобно. Затененный участок дороги, со всех сторон лес, он нависает верхушками высоких деревьев, препятствует движению воздуха. Канавы со стоячей водой, колейность местами, иногда приходится останавливаться и перетаскивать велик вручную. Здесь много глины. Этот настил сделали еще раньше, когда разрабатывали первую, ближайшую вырубку. Хотя само это направление существует давненько, вьётся неровною струйкой, приводит на Васькину просеку, которая тянется с запада на восток, к северу от Акичкино. Пересечение Васькиной просеки с этой лесною дорогой примечательно тем, что именно в этом месте летом 1994 года в ходе поисков заблудившегося учителя нашей школы, Игоря Рюриковича, мы с Егором просидели всю ночь, поддерживая костер, разогревая тушенку и перекрикиваясь со следующей опорной точкой, на которой дежурил Илюха Остренко, чуть дальше по просеке. В то время, пока Герасим с отдельным отрядом ходил где-то дальше на севере, возле Круглого в поисках потеряльцев. Огни мы разводили в надежде на то, что Рюрикович увидит их в глухой августовской ночи, ежели будет проходить где-то по лесу в поисках дома. Поиски тогда продолжались полные сутки и только на утро учитель самостоятельно вышел к школьному дому, причем с другой стороны. Но оборону мы продержали достойно и в уже утренних сумерках нас сняли с импровизированного места дежурства, скомандовали отбой и мы отправились спать на базу. Теперь от этого перекрестка начинается накатанная дорога к новым кварталам. Еще во время летних пробежек по этому направлению мною были замечено, что следы шин легковушек особенно хорошо накатали одну из отвороток, ведущих на запад южнее Круглого. Первую. Сами мы во время походов на Круглое поворачиваем обычно подальше, то есть на вторую. Сейчас, после дождя на этих продуваемых широких дорогах практически так же мокро, как и в лесу. Песок забивается в цепь и хрустит во время движения. Взятый с собой баллон со специальной смазкой практически бесполезен, чистить звезды и цепь - пустая затея, тут же снова все засоряется и намокает. Временами принимается накрапывать дождь, этакая мельчайшая пыль - то ли капает, то ли просто так висит в воздухе, подобно туману. Свинцовые тучи, серые сумерки посредь бела дня и ни малейшего ветра. Если я так и не выеду на Студенецкую трассу, придется позорно вернуться в Акичкино и думать, что делать дальше. В голове медленно зреет план Б - план бесславного возвращения в Костылево через Бестужево. Возможно, с задержкой где-нибудь по дороге. Повернув на первую отворотку двигаюсь прямо. Спустя какое-то время справа появляется поворот, ведущий на север. Это нужное мне направление. Разведанные мной еще летом окрестности Круглого не были состыкованы со старыми разработками ни в одном посещенном мной месте. Эта, не разведанная еще мною дорога может вывести на нужные мне северные кварталы. Если она, в отличие от других, состыкована. Если это действительно так, я существенно сэкономлю и мне не придется ехать до трассы еще около 5 км по прямой, а с учетом крюка на то, что бы потом вернуться обратно, чуть севернее, и всех 10 километров. Если она отсыпана, состыкована. Если… Желание срезать - двигатель глупости и прогресса. Окольный путь часто быстрее ведет к нужной цели. Неразведанная отворотка проходит обширными раскорчеванными территориями, вид которых в эту пасмурную погоду наводит на мысли о случившимся здесь апокалипсисе. Или о неудавшемся приземлении тарелки из соседней галактики. Наверное, так выглядел лес в местах падения Тунгусского метеорита. С другой стороны этой распаханной чаши - конец дороги, тупик, разворот в виде круга. Поругавшись немного на самонадеянность, ставлю отметку на карте (Тупик) и выбираюсь обратно. Следующий поворот предусмотрительно проезжаю. Очередной квартал, и уходит он так же на север и так же, наверное, не доведен до конца. Основная дорога спускается несколько вниз и еще дальше на запад. Да, понижение местности. Кстати, сейчас я уже проехал Сметану. Окружённая извивами Верюги, она осталась где-то на юге. Но сообщения с ней нет никакого - там сплошные леса. Накатанная грунтовка стремится уверенно вдаль и - о, чудо - выводит меня на Студенецкую трассу.
С этой точки уже, с этого поворота открывается как минимум две возможности - или двигаться по запланированному маршруту или в любой момент развернуться обратно, на юг, к Студенцу - а это прямая дорога на Костылево. По крайней мере, это известный и гарантированно проезжабельный вариант. Это неплохо. Потому что по-прежнему бродят по-прежнему хмурые тучи, все так же хрустит перемазанная трансмиссия и вымокшее седло безбожно скрепит, холодит заляпанную до самой банданы, отсыревшую пятую точку. Продолжая забрасывать за спину потоки воды, поворачиваю все же на север. Ехать по трассе попроще. Чувствуется утрамбованное лесовозами полотно. Эта трасса широкая - при желании здесь могут разъехаться две встречных машины. По пути встречается еще один поворот - на УЛК-шное охотохозяйство под названием Тушмино. Интересно, что там. Дорога довольно заметная, хотя на снимках ее и не видно. Вырубов, впрочем, там нет и скорее всего она тупиковая, и никем кроме охотников не используется. Проезжая в совокупности 6 км по трассе, достигаю таки своего поворота! Здесь указатель на 24, 25, 26 и 27 кварталы. Прямо на повороте - штабеля леса, приготовленные для отправки и особенная табличка, предупреждающая о том, что ты выезжаешь на технологическую дорогу, проезд по которой для грузового транспорта запрещен. Кроме того, который занят на вывозе леса, конечно. Здесь начинаются те самые выруба, которые мне так нужны - вот по этим дорогам я как раз и рассчитываю выскочить к Целюге. Кварталы раскинулись с запада на восток на многие километры и с одной стороны, то есть с запада к ним примыкает Студенецкая трасса, на которой я сейчас нахожусь, с востока - трасса идущая от Глубокого через Развилку вдоль Юмижа, мимо Целюги. Эта восточная трасса после моста и избушки на Целюге поворачивает снова на запад и проходя чуть посевернее вновь стыкуется с Студенецкой, образуя что-то вроде квадратика. По этой дороге мы в августе 2013 года путешествовали с компанией на УАЗе, надеясь проехать до Соезерска. Выбрали тогда неправильный путь, понадеявшись на спутниковые снимки и уперлись в провалившийся мост через Дьяков ручей, который впадает чуть позже все в тот же Юмиж. Отчаявшись попасть в Соезерск, мы вернулись на трассу и проехали через Целюгу вот этой самой северной перемычкой на Студенецкую трассу и дальше - на Стрелку, как здешний народ называет группку поселков еще дальше, за Кодимой - Монастырскую, Носовскую да Шахановку. Хороша эта северная перемычка! Накатанная и прямая. УАЗ, ведомый Андрюхой летел по этой дороге со скоростью ветра. Деньки тогда стояли погожие и путешествовать было одно удовольствие. Вот только сейчас мне эта дорога совсем походит - делать крюк, ехать еще дальше на север в такую погоду и увеличивать расстояние еще километров на 30 совершенно не хочется. И потому вся надежда на проходимость этой, вот, технологической трассы. Судя по снимкам, она должна быть хорошей, просто обязана. И тот факт, что невзирая на обстоятельства я до нее все же доехал внушает уверенность. А куда серьезнее сказывается на настроении, доставляет изрядную порцию оптимизма неожиданно разгулявшаяся погода! Стоило мне достичь поворота, как в клубящихся тучах появились разрывы, серую хмарь сорвало, разметало, раскинуло и мокрые бревна, листва на деревьях, блестящий от дождевой воды металл велика - все засверкало и заискрилось, заулыбалось на солнце. Жмурясь от удовольствия, глядя на яркое солнышко, решаю сделать первый привал, потешить себя питательными батончиками, гелем, теплом, радужными перспективами и запить эту радость водичкой. Ну, наконец-то. Впервые за сегодняшний день все приходит в порядок, становится на места и цель моего путешествия уже не кажется столь далекой, несбыточной. Привычная вера в собственное всемогущество накрывает меня с головой, распространяется окрест теплой аурой так, что даже песок на дороге становится суше. В какой же степени все живое зависит от погоды, однако.
Снарядившись опосля перекуса, разворачиваюсь к востоку. Если глянуть на карту, становится ясно, что вариантов движения к Целюгской трассе здесь два. А именно - от крупной развилки с карьером можно ехать либо на север, либо правее и далее мимо Юмижского болота практически. И та и другая дорога проходит расчищенными кварталами почти на всем своем протяжении. Восточная некоторое время идет нетронутым лесом, но так же выходит потом к вырубам. Очевидно, что обеими пользуются. По дороге к развилке встречается Кодима. Это верхнее её течение и здесь она такая же узкая и заросшая, как и чуть севернее, около Стрелки. По ширине уступает невеликой скромнице Верюге. Встречаются люди, однако, которые и по этой, вот, исчезающей речке умудряются путешествовать на байдарках и прочих плавсредствах. Правда, в весеннее, половодное время. Мы же бывали на ее берегах только летом. Однажды во время все той же поездки на Стрелку - останавливались на обед, в другой раз меня принесло на Кодиму в одиночестве - хотелось посмотреть на Шахановку и окрестности, посетить неизведанные территории. До Шахановки я в тот раз не добрался, половину пути проехал на лесовозах, но вернулся домой еще засветло. Хрупкие светло-зеленые мхи, устилающие песчаную местность, высокие сосны запомнились из этой поездки, случившейся в августе 2009-го года. И через 4 года ровнёхонько мы в расширившейся уже компании сидели на том самом месте, возвращаясь назад из Шахановки, открывали тушенку, резали хлеб, варили на костерке неизменную гречку и разливали по кружкам охлажденную в ледяной даже в летнее время реке Кодиме сорокаградусную прозрачную влагу. Жарились на горячем августовском солнцепёке, наслаждались речною прохладой, запахом леса, хлебом да солью и давно крепкосбитой компанией.
Хороша речка Кодима, хлебушек да застолья, но жанр нынешнего моего путешествия призывает меня двигаться дальше, оставляя за спиной ту дорогу, по которой мы три года назад возвращались в Акичкино. К слову сказать, здесь, на Кодиме есть избушка охотников. И, хотя печка в ней уже и разобрана, это отличный вариант для ночевки. К сожалению, мне ночевать еще слишком рано, время только недавно миновало полудень. Тут мне встречается первая и предпоследняя машина с людьми за все время двухдневной поездки. УАЗик проносится мимо, пока я расхаживаю вокруг избушки так быстро, что я не успеваю додумать мысль расспросить их о том, правильной ли дорогой я еду. Ну, да их ладно. Что это за исследование такое - с подсказками? Решение ехать южной дорогой приходит мгновенно, стоит добраться до развилки с карьером. Оттуда, из-за карьера доносится явственный шум каких-то дорожных, а может быть, лесоповальных работ. В самом карьере виднеется техника - то ли вагончики, то ли мобильные энергостанции на колесах, ярко-жёлтого цвета, вполне современного вида. Соваться вглубь этой деятельности, да еще по перепаханной глине не хочется, дорога же вправо выглядит более привлекательной и пустынной. Выбрав эту дорогу двигаюсь почти все время прямо. Здесь по пути дважды уходят направо, почти строго на юг две, видимо не до конца еще состыкованные отворотки. Первая, почти сразу же за карьером по идее стыкуется с тем поворотом, который я не стал проверять, двигаясь к трассе. Вторая - к тому самому Тупику, от которого мне пришлось развернуться обратно. Что же, и с этой стороны эти дороги не очень. Они не отсыпаны и проехать по ним можно было бы разве что на УАЗе в сухую погоду. Так что, жалеть, в общем-то, не о чем - пока что я еду единственно верной и самой короткой при этом дорогой. По пути почти не встречается вырубов. Либо они уже очень старые и заросшие. Первая образцовая вырубка неожиданно открывается слева - пространство, покрытое юной порослью, густо сдобренное подлеском с одиноко торчащими тут и там постаревшими ёлками да березами. Вырубка, проведенная по всем правилам, когда взрослые, возмужалые уже дерева оставляются в редком количестве, на рассев, на рассаду, что бы разлетающиеся по ветру семена сами бы засевали окружающие, освободившиеся территории и что бы лес, таким образом, вырастал через несколько лет заново там, где прошли только что люди с пилами и топорами. Что бы сказали на это защитники зеленой природы, затрудняюсь ответить, но по-моему это работает. И здесь, на севере часто приходится видеть, как не только лес, вырубленный лет десять назад заново создает непроходимые заросли, но и как распаханные некогда, при советской власти поля засеваются семенами окрестных, зачастую далеких лесов на глазах, за одно-полтора десятилетия. Так, к примеру, в Акичкино, на бывшем колхозном поле давно уже шумит смешанный лес и туда, куда местные жители еще в 90-хх ходили на сенокосы сейчас уже ходят исключительно за грибами да ягодой. Да, товарищи, но такой обсыпной земляники, как на поле в Акичкино я нигде, пожалуй, не видел. А в лесу, покрывающем это бывшее поле встречаются уже вполне зрелые березы и сосны. А на краю этой, вот, вырубки, что я сейчас проезжаю, выстроен неслабый навес, под которым по рассказам Осипова Алексея местный предприниматель Буторин, занимающийся в Устьянских краях заготовками принимал-потчевал неких важных гостей, демонстрируя следование этикету лесопромышленника.
Долго ли, коротко ли, но солнце начинает клониться к закату. Время давно уже послеобеденное и длинные тени перечерчивают дорогу. Подсохший песок ее верхнего слоя создает обманчивое впечатление твердого грунта. Но это неправда - под этим поверхностным слоем все так же насыщено влагой. Световой день предстоит еще длинный и разгулявшуюся погоду и это время надо использовать. До ближайшего поворота мне, судя по карте, осталось немного, но дальше - прямой длинный участок на север и от следующего поворота - единственная дорога до Целюгской трассы. Все просто. Ехать теперь несколько легче. Солнце играется с яркой, вымокшей зеленью, по небу тянутся разношерстные, рваные облака - расползающиеся колтуны серой ваты, многоглавые, белоснежные терема громоздятся в недосигаемой дали, чуть ниже под ними - затененная, лишенная света изнанка. Контрастируя с синевой неба уверенно тянется дальше и дальше рыжеватое полотно лесовозной дороги. Колеса наматывают на цепь многочисленные мелкие камешки, а я с восторгом останавливаюсь посмотреть на открывающийся вид очередного участка технологической трассы, в начале которого установлен столбец с указателем 42К.
С обеих сторон придвигается плотный кустарник. Обыкновенные на вырубах канавы вдоль насыпи здесь уже зарастают и сегодня из этих зарослей постоянно выпархивают куропатки, пролетают по-над дорогой и снова скрываются средь ветвей. Грунтовка тянется до самого горизонта, дикая и пустынная. Следы от шин на песке, да редкие птицы - вот и все мои спутники на этом пути. По краям рвов отцветают Люпины. На самой линии горизонта, в точке, в которую упирается трасса, торчит одинокое дерево - где-то там ожидается крутой разворот на 90 градусов и последний участок технологической перемычки, которая, я надеюсь, приведет меня к Целюгской трассе. И ежели оправдаются эти надежды, устрою-ка я перекус на том повороте. Привал! Наконец-то… Коли уж довела эта трасса нас с великом до этого поворота, то можно рассчитывать и на то, что и последний участок её окажется проезжабельным. А это значит, как минимум, что я выберусь на дорогу, ведущую в южном своем направлении до Бестужево. Рассчитывать будем, конечно, на лучшее, на северное ее направление. Но иметь за спиной запасной вариант все же не лишнее. Какое же наслаждение уронить облепленный грязью, отягощенный багажником велик прям на обочину, стащить мокрую от дождя и пота бандану, скинуть жесткие велосипедные туфли и походить босиком по мягкому мху, по траве да по лужам. Стоять, уперев руки в боки, глядя на медленно проплывающие облака, вертеть головой во все стороны, а то и просто, прикрыв ненадолго глаза, вбирать всей кожей, всем телом тепло и покой, тишину, разнотравие, растворенные запахи, легкое шевеление ветра и собственное, различимое в этом безмолвии, размеренное сердцебиение. И самое главное - не торопиться. А на данный момент я проехал уже 33 с половиною километра, однако. Немало. Имею право расслабиться, это хорошая скорость. Если так дело пойдет и дальше, у меня есть все шансы добраться до цели. Велосипед лежит на дороге и приходится отцеплять багажную сумку от самой рамки багажника, иначе копаться с его содержимом просто-таки неудобно. Замок сумки, изрядно забитый песком, перемешанным с глиной, сдвигается туго, приходится его предварительно чистить. Справившись с этой задачей, размещаюсь на лавочке под навесом, заботливо установленном здесь безымянными зодчими. Что на обед? Обойдемся без каши. По пути моя пища - пакетики с гелями и я не особенно голоден. Но посидеть не спеша и выпить горячего чая с какой-нибудь сладостью - хочется.
Взгромождаться обратно на велик после отдыха и горячего чая тяжко. Остывшие мышцы отказываются крутить педали и выталкивать увязающие колеса из этой все еще мягкой дороги. Местность впереди расстилается всхолмленная, с перепадами. Скатываться со свистом вниз по наклонной дороге приятно, но после приходится вновь взбираться на горку. Используя ускорение, вниз разгоняюсь до шестой или пятой, наверх забираться приходится на второй. И так раз за разом. В низинах - частые речки и я останавливаюсь на одной, с перекинутым через нее мостом, что бы пополнить запасы воды. Для воды я, кстати, использую всего три бутылки. Одна - на специальном креплении на раме и еще две стандартных с питьевой водой Шишкин Лес в самый раз умещаются в симметричных отсеках на поясной сумке Jack Wolfskin. Сумка удобно закреплена за спиной и в ней, помимо воды я везу еще гели, пакетики с кашей, батончики, ключи, документы. Объемная, около 3 литров, она - верх удобства и здорово разгружает заднюю багажную сумку.
Проезжаю 13 и 14-й кварталы еще пару горочек, поворотов и внезапно выскакиваю на дорогу, ведущую к Целюге. Конец технологической трассе, свершилось. Перекресток здесь, надо сказать, ого-го, очень даже внушает. Если дорога у меня за спиной, можно сказать, с односторонним движением, то эта трасса уже двухполосная. А самое главное, что я сюда все же доехал. Это уже совсем другой коленкор, другой край, направление. Окромя самого перекрестка обнаруживается и временное жилье человека, передвижной вагончик. В подобных вагонах, снабженных печками и полатями ночуют рабочие, занятые на лесных заготовках. Жилье примитивное, незатейливое и все-таки крыша над головой, как ни крути. В том числе с дверью. Дверь, кстати, запертая на какую-то проволочку, легко поддается и я с интересом осматриваю сей объект современной культуры. И размышляю невольно о том, что гораздо удобнее было бы ночевать в той избушке у Целюги. Но до нее еще 8 км, причем в противоположную сторону. Увеличивать и без того неизвестное расстояние вовсе не хочется, даже ради человеческого ночлега, время ехать еще позволяет и, воодушевленный успехом, решаюсь двигаться дальше и ехать, насколько получится, пока еще Солнце не село, пока… в общем, далее по обстоятельствам.
Погода стремительно портится и приближается к вечеру, серому и какому-то непроглядному. Трасса на этом участке освоена лесовозами и прилично накатана. Каменистая, с крупными, скользкими от влаги булыжниками. Для тяжелых прицепов, нагруженных лесом это неплохо, но для велика такая гребенка, похожая на стиральную доску - сущее наказание и мне приходится трястись еще какое-то время, мелко подпрыгивая и позвякивая снаряжением на голых камнях. Около десяти километров проходит прежде, чем я достигаю наконец-то развилки, нужного мне поворота на северо-восток, уходящего в соседний район, Верхнетоемский. Взгляд на юг - искушение. Двигаться дальше на север в эти мокрые сумерки, в неизвестность теперь уже кажется чистым безумием, а бегство в Бестужево - избавлением. Силы мои на исходе, а свежесть мысли отсутствует и только на одной автоматике я, помявшись, помаявшись снова взбираюсь на велик и продолжаю тупое свое продвижение к цели, выбравши правую отворотку. Приходится снова бороться с песчаной дорогой, с благодарностью вспоминая утрамбованность целюгской трассы. Атмосфера, даже сам воздух все больше сереют, становится зябко. Мышцы натружены и утратили свежесть, в голове крутится лишь мысль о ночлеге. И когда через пять километров я вдруг вижу по правую руку еще один деревянный вагончик, без сомнений сворачиваю и принимаюсь за его изучение. Назад 500/500 вперёд Волею или неволей, но мне приходится обустраиваться в неожиданном моем обиталище. Это дощатый вагончик на крепкой деревянной платформе и деревянных полозьях - внушительных размеров конструкции, которая одновременно является для него волокушей. Догадываюсь, что на этой платформе его перетаскивают с места на место. Платформа достаточно высока, более метра, и к ней приставлен дощатый настил, наподобие лесенки. Обстановка внутри, прямо скажем, спартанская - двухъярусные полати, стол, лавка и печка. В углу имеется что-то вроде буфета, с запасами в виде крупы, соли и чая, давно пришедшими в окончательную негодность. Но что наиболее для меня актуально - на полу рядом с печкой сложен небольшой запас наколотых дров. Предшественники мои, соблюдая неписаный закон таежного жителя оставили для будущих посетителей самое главное - немного продуктов и дров. Не страшно, что продукты испорчены, я рассчитываю на свои. Но дрова в эту сырую и пасмурную погоду, в особенности учитывая, что спальника у меня с собой не имеется - более, чем уместны. Здесь, посреди этой Богом, людьми забытой дороги я особенно остро ощущаю свое одиночество. В точке, одинаково удаленной от конца и начала. И достаточно удаленной. Более 50-ти км оставлено за спиной и примерно столько же предстоит мне назавтра. С достижением Целюгской лесовозки появляется и еще один вариант - бегство к югу, к Бестужево, до которого даже поменьше, наверное, километров 30. Погода, пошедшая было на лад и окрылявшая почти всю дорогу к вечеру снова испортилась, съёжилась, повисла недоброю влагой и бесцветными сумерками, заволокла небо тучами, а уши плотною ватой и в этом потускневшем безмолвии мне действительно кажется, что я - последний человек на Земле. Что в этом пустом, тихом мире просто не может быть чего-то еще, не может быть жизни, движения. Все замерло и здесь никто никогда не проедет. Не шелохнется сбитая ветка, не пролетит над дорогою птица. Следы узких шин нарушают однообразие песчаной дороги и только они - свидетельство присутствия человека. Дощатый вагон возвышается как инородное тело, как аномальный нарост на чистой бровке обочины. Когда и как он здесь очутился, почему был забыт и оставлен… Артефакт потустороннего мира, как я. Потому что мы - странные гости в этой действительности и смотримся здесь причудливо, неуместно. Тяжелое продвижение по мокрой крошке из камня лишь подтверждает такую догадку. В этой реальности нужны другие органы чувств и стремления, другой ритм жизни. Она медленно открывается, ее не захватишь нахрапом. Она прячется где-то под листьями, в воздухе, в скользких от влаги камнях, в неожиданно хрустнувшей ветке. И мой сбитый с толку, измотанный, оглушенный непрекращающейся тишиной организм теперь отправляется поближе ко сну, развешивает на просушку намокшие вещи, отгораживается от улицы тонкой дверкой и готовится принимать походную пищу - макароны с каким-то подобием мяса, приготовленные на огне. Пристанище мое размером 2 х 4 не поражает убранством. Велосипед притулился у задней стенки вагона - остывать, отмокать и набираться сил перед завтрашним испытанием, я же нежусь у печки, уже порядочно разогревшейся - пара поленьев и она уже пышет жаром так, что в помещении становится душновато и приходится открывать даже форточку. Да, здесь имеется форточка - небольшое оконце на противоположной стене, с поднимающейся кверху рамой. Дверь приходится прикрывать и привязывать проволокой - человеческий замок не придумали. Вещи сушатся на веревках, натянутых поперек комнатушки, снаряжение и продукты разложены по пустующим полкам и я разжигаю горелку, установленную на столе под оконцем. Это действительно напоминает плацкартный вагон, в котором ты сам - машинист, проводник и попутчик. Отвечаешь за отопление, стелешь постель, приготавливаешь кипяток и смотришь на улицу. Выбираешься иногда на платформу - отследить изменения. Правда, здесь ничего не меняется, как в известном стихотворении. Только света становится меньше и меньше. Сырость и влажные, непроглядные сумерки затуманивают дорогу. Впереди, в сотне метров - речушка, но даже в такой тишине ее вовсе не слышно. Макароны меж тем приготовились. Я расходую воду весьма экономно и мне не приходится идти даже за добавкой для чая. Одну половинку тарелки я применяю под что-то съестное, вторую - под кипяток на заварку. Расправившись с ужином, можно сидеть и неторопливо прихлебывать душистый, горячий напиток. С собой у меня достаточно сытных и калорийных батончиков, спешить сейчас некуда и вода от меня в двух шагах в изрядных количествах. И я не спешу, застываю в безвременьи, в потерянной точке на карте, которая, подобно порталу, завела меня в иное пространство, открыла путь иным ощущениям, да так и оставила, притворив за собою ворота. Медленно, медленно я склоняюсь ко сну, лишь где-то с краю сознания остается призрачное беспокойство из-за погоды, дороги и всех тех трудностей и препятствий, что поджидают меня назавтра.
Жесткие лавки, отсутствие спальника - вместо него клеенка, приготовлена на случай дождя - и постепенно остывающее помещение не слишком способствуют погружению в полноценный глубокий сон. Рассказы Осипова о медведицах с медвежатами и волках, которые в августе выводят подрастающее поколение на дороги и учат их там, на открытых пространствах охотиться на беспечную, рассеянную добычу всплывают теперь в голове с особенной четкостью. За стеною звенит тишина и тишина эта - их территория. Волков и медведей, лисиц, росомах, рысей. И, положа руку на сердце я совсем не готов к такой встрече. Как вести себя с ними, не знаю. Такие рассказы хорошо слушать в компании, потешаясь над незадачливыми и смешными охотниками. А вот здесь и сейчас все серьезно и по-настоящему. Кто знает, кого из лесных обитателей принесет нынче к домику, заинтересованного необычными запахами, звуками и просто в поисках пищи. От последнего слова становится совсем уже жутковато. Окончательно выводит из сна какое-то шебуршание, настойчиво, с перерывами раздающееся где-то под дверью. Словно бы кто-то любопытный, назойливый проверяет ее на прочность - копнёт, задумается, снова копнёт. Неужели ж я все-таки стал интересен какому-то местному жителю. Не упуская из головы рассказов о диких животных решаю все же пойти и проверить, кто там мешает мне спать. Но на улице нет никого, только ночь. Августовская, непроглядная. Фонарик выхватывает мокрые ветки деревьев да песок на дороге, сдобренный моими следами. Так выхожу пару раз и понимаю только на третий, что источник звука внутри, не снаружи. Это мелкие черные мыши и орудуют они в угловом шкафчике, доканчивая начатую ими когда-то крупу, уже рассыпанную по полкам. Возмущенный такой наглостью и соседством решительно выставляю шкафчик на улицу - ни в чем себе не отказывайте - потому что как-то прогнать, напугать и утихомирить этих юрких и осмелевших животных нету возможности. Посмеявшися над своим ночным страхом и на время избавившись от неожиданной этой напасти, возвращаюсь на неуютную полку в надежде спокойно проспать уже до утра. Под утро в доме прохладно. Полиэтилен, служащий мне одеялом не слишком спасает. Проваливаясь ненадолго в сон как-то дотягиваю до утренних сумерек. Всю ночь преследует одна только мысль - что будет с погодой. Стартовать сегодня имеет смысл пораньше, ибо путь впереди тяжелый и хотя в запасе имеется еще один день - на поезд до Авнюги мне нужно поспеть послезавтра к пяти часам вечера - рассусоливать особо не стоит, шутки с дождем в тайге плохи. И потому часов в восемь собираюсь уже подниматься. Но вот незадача, вместе с серым рассветом приходит такой же неясный, фоновый шум - то ли молотит, то ли царапает что-то по крыше. Не желая еще расставаться с последней надеждой, что эти лишь ветер качает деревья, вываливаюсь за порог, моргаю слепыми глазами и отчетливо понимаю, что моих минус шести более, чем достаточно, что б рассмотреть плотную завесу дождя, поливающего дорогу. Приплыли. Теперь ехать некуда. Провести день на месте, дожидаясь погоды? Поворачивать к югу, в Бестужево? А когда?... В любом случае ясно, что не сейчас. В безнадеге заваливаюсь обратно на полку, делать-то все равно нечего. И даже в каком-то расслабленном, более похожем на сон состоянии валяюсь еще до 11-ти, когда дождь, наконец, затихает. При дневном уже свете выхожу на дорогу, положив оценить обстановку и серьезно подумать, что делать дальше. День второй или Насилие над организмом – Златеника затеяла большую уборку. Для хоббичьего народца слишком сыро. Пусть отдыхает, пока можно. Самый подходящий день для длинных историй, Мир пропитан водой, как после стирки. В стиральной машине с неработающей функцией отжима. Кто-то там, наверху затеял уборку, промокнул золотые чертоги - от края до края - титанической ветошью и круговорот всех субстанций в природе довершил это дело. Не думал, что такое возможно, но содержание влаги в песке на дороге теперь превышает вчерашнюю норму. Так, что даже со своим малым весом, босиком, в одних шортах я проваливаюсь в ее зернистое полотно на два-три сантиметра. У природы на все свои планы и она не очень старается согласовывать их с нами, букашками, торопящимися по своим бестолковым причинам в направлении таких же смешных и непонятных ей целей. В такую погоду хорошо сидеть дома, в тепле да жарить блины под сухое трещание печки. А то и на самом деле устроиться в глубинах уютного кресла и слушать рассказы Отца Заповедных Земель, наблюдая - исключительно в воображении - дальние страны да стародавние времена, путешествуя за границами памяти, не отрываясь от места. Но мне недосуг тормозить да рассиживаться. Я не в таких местах, к сожалению. И мне, что бы попасть хоть куда-то, придется подвигаться, припрятав мечты о тепле и уюте до времени. И дойти надо сначала до речки. А река называется Нествеж. Здесь, на финно-угорском, я теперь русском севере в названиях деревень, пирогов с начинкою, рек до сих пор звучат корни и суффиксы населявших когда-то эти места древних племен финской группы - Веси, Карелов да Мери. Хотя, почему населявших. Народы не исчезают бесследно. Московское княжество, положившее конец северной вольницы не истребило местное население, не вытеснило его на соседние земли, а почти тихо-мирно смешалось с последним. Устьянские поселения даже после прихода на север князей, православия еще долгое время продолжали жить обособленно, а специфика местного говора, что так привлекает сегодня приезжих и по сию пору хранит аромат и певучесть старинных карельских, мерянских словечек. Кокше-ньга, Квазе-ньга и Песья Де-ньга. И Кест-важ и Ам-беж и несчетное число малых речек сегодня, как и в прежние времена говорят с нами словами вымершего наречия. И даже в названии, некогда, центра влияния русского государства - Шенкурска (стар. Шен-курья) - все те же финские корни. Курья - старица, участок прежнего русла. Га (Ха) - поток, течение. Веж (важ или вож) - исток, разветвление. И вот, одна их таких малых речек, впадающих, кстати, в Юмиж поит меня сегодня водой и становится местом утреннего омовения. После выпавших за предыдущие дни и ночи осадков темные воды реки пополняются чистыми и прозрачными ручейками - потоками, прибывающими из окрестных лесов и полей. Забавно смотреть, как почти что стоячие её, чайные заводи разбавляются свежими, светлыми струями, и тишина степенной таёжной речушки нарушается веселым журчанием молодых ручейков. Вся заросшая травами, забитая топляком непролазная пойма взбудоражена их веселыми, беззаботными голосами. Пролившиеся на матушку-землю дожди напитают поля, мхи и болота. Те отдадут свою воду бесчисленным речкам, реки сольются в широкие русла - Устью и Вагу. И через многие километры течение полноводной Двины принесет их к Северному ледовитому океану. Над океаном сгустятся тяжелые тучи и холодные ветры вернут их обратно, на Устью. И все повторится сначала. И пока этого не случилось, наберу-ка я пару бутылок. От них не убудет. Почему-то вода в этих реках все время холодная. Даже если они очень мелкие, как Черемуха или Кодима. Она сводит зубы, бодрит, возвращает в сознание. Что мне делать в Бестужево? Два дня болтаться без дела в ожидании поезда, да испытывать гостеприимство хозяев - Константиныча или Осипова. И жалеть о несбывшемся. И снова планировать, глядя на карту в ожидании лучших условий. Решение принято и с реки я возвращаюсь уже с твердым намерением пробиваться сегодня до цели. Если погода подкидывает мне столько воды - пускай будет вода, хотя по жаркой и пыльной дороге ехать, конечно, приятней. А пока что - овсяная каша, кофе побольше, ставшая уже привычной сумка на пояс с запасом питательных гелей, просохшие за ночь у печки велосипедные туфли, перчатки, навигатор на руль и еще раз пополнить запасы воды по дороге. Прощайте, удачный ночлег и река Нествеж. Спасибо, ребята за то, что оставили этот дом у дороги. Повезет ли мне так еще раз впереди - неизвестно. Спасибо.
Сборы действительно вышли недолгими. И если бы не падение на скользкой от дождя лестнице с последовавшим приземлением на жесткие доски правым, лишенным подкожного жира седалищем, их можно было б назвать еще и успешными. Но этой глупой и неуместной оплошности мне не удалось избежать - я так стремился быстрее отправиться в путь, что в последний раз спускаясь из домика к уже навьюченному велосипеду неосторожно шагнул на настил и со всего маху практически съехал, как с горки с настила, выбив правым ботинком приколоченную гвоздями ступеньку - деревянный брусок-перекладину. Ступенька улетела в траву, а я, простояв полминуты в согнутом пополам положении - от неожиданности и от огорчения (не от боли, конечно) - взгромоздился на велик и теперь обречен продолжать путешествие с медленно растекающимся по всему правому полупопию иссиня-черным подтёком. Хорошо, что у меня с собой Арника - средство, буквально чудесное от многих травм и болезней. И обязательный элемент походной аптечки. И еще хорошо, что точка падения пришлась немного правее той точки, которой я обычно сижу на сиденье. Первый же подъем в горку заставляет меня вспоминать о вчерашней погоде, как о манне небесной. Дорога на этом участке сама по себе мягче, песчанней, а после дождя, что прошел ранним утром ехать наверх совсем невозможно - приходится вести велик рядом, медленно поднимаясь пешком до вершины подъема. На прочих, пологих участках колеса проваливаются в песок на всю толщину велосипедной покрышки. Что бы хоть как-то этого избегать, пробую ехать быстрее, но это не слишком-то получается все по тем же причинам - песок перенасыщен влагой. Сегодняшнее мое продвижение представляет из себя нескончаемое, монотонное выталкивание колес из расползающегося песка. На второй, максимум - третьей скорости. О движении по инерции можно вовсе забыть - только перестаешь прилагать к педалям усилия, велик в момент останавливается. В такой упорной борьбе с дорогой проходит около двух часов, за которые я успеваю проехать километров девять от силы. Чудовищно мало. Я сейчас продвигаюсь зарастающими уже кварталами - заготовки в этих местах последние пару лет, видимо, не ведутся. Общая схема движения - прямо, поворот на 45 / 90 и снова прямо. Слева - вырубленный недавно квартал, справа - квадрат высокого леса. Еще поворот и теперь в обратном порядке - выруб и сплошной кусок леса. Как шахматы. Я уже сбился со счета и устал считать эти кварталы. Темп движения медленный. Пойдет так и дальше - я заночую в пути и цель путешествия увижу только назавтра. А больше деваться тут некуда - только вперед, не назад. Населёнки по сторонам, кстати, нету. Даже на Верюге деревни расположены густо по сравнению с этой областью. И я углубляюсь в нее все сильнее. Ни человечьего крова, ни транспорта. От Сойги имеется узкоколейка, но идет она в соседний район, в противоположную сторону и населенные пункты Верхнетоемского района жмутся как правило ближе к Двинскому берегу. Есть еще Авнюгский Починок - но он южнее железной дороги и попасть в него можно разве что с Квазеньги или все с той же Двины. Постепенно все мысли мои сводятся к точке, в которую упирается впереди дорога, а постоянное напряжение не оставляет сил любоваться суровым и безусловно прекрасным пейзажем, раскинувшимся по сторонам.
Местность становится дикой, безлюдной. Эту дорогу используют лишь лесовозы, заготовки сейчас не ведутся, вот она и пустует, покинутая, одинокая. Для жителей Соозерска связующей их с остальным миром ниточкой стала железка, основным транспортом - дизельный паровоз и дрезина. Машина для них - местная роскошь, чисто для внутренних сообщений, ехать по автодороге в соседний район им без надобности, да и чересчур хлопотно. Зато для чеканутых туристов путь, проложенный лесовозами - просто находка. И теперь на этом пути попадается все больше знаков присутствия животного мира. Как следов на песке, так и следов жизнедеятельности. Следы лап размыты дождем и едва различимы, прочие же следы, в виде разнообразных скоплений той или иной степени свежести попадаются чаще и чаще и не оставляют сомнений - на тутошней территории животные чувствуют себя спокойно. Вдали от техники и человека. Когда ты милю за милей вращаешь педали по уже ставшей привычной пустынной дороге, любые изменения в своем положении замечаешь мгновенно. Так что, я разглядел его еще издали. Сперва это была просто точка, вкропление в одноцветную насыпь дороги. Только что она была равномерной, стелилась до того самого места, в котором поворот упирается в стену леса, и вот её уже нарушает что-то новое, инородное. Что-то давненько не виденное. Неподвижная по первости точка обретает размеры, движение. Ты отталкиваешься от планеты педалями, а она приближается и вот, можно уже оценить очертания и манеру движения - скачки, невысокие и ритмичные, слегка из стороны в сторону. Ты уже точно знаешь, с кем встретился, хоть это и первая подобная встреча. И ты останавливаешься. Не потому что тебя так учили - вести себя надо спокойно, неагрессивно, уверенно. И не потому, что очень хочется заснять эту встречу, на телефон-то особо не снимешь, и расстояние к тому же приличное. А потому, что понятия не имеешь, что делать дальше. И еще потому, что в этот момент понимаешь - так сбывается мечта идиота. Мой новый приятель, а без сомнения он - Серый Волк или же Canis lupus - хищное млекопитающее из рода волков не спешит отступать от намерений. Не сбавляя скорости приближается, размеренно двигаясь в крайнем левом ряду мне навстречу. У него там какое-то дело, откуда я только приехал. Здесь - его родина. Далекие предки волков перебрались в Евразию с севера Американского континента, перешли океан прямо по льду, сковавшем Чукотское море и свободно распространились по новым для себя территориям - от Японии и Гималаев до русского севера и Европы. Красные волки, Тибетские и ближайший брат нашего серого волка - Индийский - повсеместно теперь обитают в Евразии, потеснив в конкурентной борьбе за измельчавшую, шуструю пищу своих более крупных и неповоротливых родичей. Правда, и сами с тех пор слегка выросли. Рост в холке современного серого волка достигает порой 86 см, длина - 160 см. Взрослый волк, живущий на севере вполне может весить 70 кг. И судя по фотографиям, виденным нами у Осипова это похоже на истину. Поголовье волков на Устье в последние годы приличное. Зимой они не боятся наведываться даже в деревни, видно, в лесу не хватает добычи. Таскают собак прямо с привязи. Так что, встреча со стаей, когда та промышляет охотой чревата последствиями. Я пытаюсь снимать его приближение. У камеры в телефоне угол широкий, так что это не слишком-то получается. Но фотоохота сейчас - мой единственный способ воздействия на этого зверя. Даже ножа нет с собой, из соображений экономии веса. Да и что бы я делал с ножом, со своими 60 кг супротив прирожденного хищника? Остается лишь ждать поворота событий. Все же он замедляется. Я стою у него на пути и ситуация требует разрешения. Просто так пройти рядом он, видно, не может. На секунду замешкавшись, волк ныряет в кусты слева по ходу движения. До того места, где он только что был еще около сотни метров и я продолжаю ждать. Действительно, через минуту он выходит обратно, чуть ближе. И принимается снова бежать. Теперь подходит уже до пятидесяти метров и вновь - остановка. Это такая игра. Я во власти двух чувств одновременно - страха и желания увидеть моего нового друга поближе - возможностей камеры катастрофически не хватает, что бы запечатлеть его, как хотелось бы. Теперь и он не знает, что делать. Я не схожу с места, на уровне глаз - телефон. Он начинает расхаживать вправо и влево, словно теряет терпение. Ему нужно пройти, а препятствие ведет себя странно и не уходит с дороги. Что бы как-то ускорить развитие событий и подтолкнуть его к действиям я издаю чмокающий звук одними губами. Ему это не нравится! Он уходит в подлесок вторично, теперь на правую сторону (от меня - левую). Однако, я успеваю поймать тот момент, когда он стоит, развернувшийся боком, готовый нырнуть в придорожные заросли. Он долгое время отсутствует, видно ему надоело. Увлеченный азартом, я хватаю телефон в зубы и еду навстречу. Это непросто, ведь песок еще мокрый, но я стараюсь привставать в стременах и какое-то время так ехать, внимательно вглядываясь, вытянув шею и шаря взглядом по зарослям. Нет, не видать. То ли он искусно так прячется, то ли ушел глубже в лес, подальше от встречи. Обидно... Что делать? Лезть за ним следом в чащу у меня смелости все ж не хватает, подобная наглость уже может его разозлить. Он честно старался уйти дважды с дороги, не проявляя агрессии. Не стоит испытывать нервы хищника. Мы хорошо разошлись. Какие-никакие, а кадры от этой встречи остались. А значит можно двигаться дальше, до карьера осталось еще километра четыре. С сожалением оглядываясь, продолжаю свое путешествие. Начинается длинный пологий тягун и мне приходится убирать телефон и прикладывать все усилия, заставляя велик хоть как-то двигаться. Слева тянется старый выруб и по мере приближения к повороту в конце этой медленной горки я чувствую, как меня покидают последние силы и я сам начинаю потихоньку звереть - за спиной часа три неустанной борьбы с вязкой, мокрой дорогой и перед поворотом я уже сквозь зубы рычу при движении, а забравшись наверх обессиленно, с облегчением роняю велик на землю, в непосредственной близости от вереницы волчьих следов.
До цели немалое расстояние и я медленно еду, а сил расходую много, но прямо сейчас надо выпить воды и положить внутрь что-то питательное. Расхаживая по дороге и отдыхая от велика, я разглядываю глубокие вмятины, оставленные волчьими лапами. Площадь его отпечатка меньше следа от моей вело-туфли, зато глубина впечатляет. Видать, весит собачка немало. И пришла она как раз с севера. Блуждая взглядом по вмятинам нет-нет, да поглядываю в направлении поворота, из-за которого я только что выехал - где один волк, могут быть и другие.
Сегодня последний участок дороги к карьеру по-летнему влажен, закрыт подступающими к самому краю кустарником и деревьями. И одна только радость - начинается едва заметный уклон, какое-то время даже получается катиться под горку, выскакивая на пустующий, осиротевший участок, освобожденный от леса, на котором еще полтора года назад работали люди. Сегодня здесь нету людей, нету техники и нет пачек сгруженного леса. А значит, и нечего думать устраивать здесь ночевку, случись что с дальнейшей дорогой, погодой или еще в связи с какими-нибудь обстоятельствами. И от стаи волков негде будет укрыться. Поозиравшись на грустное зрелище, разыскиваю поворот вправо, ныряю заново в лес и принимаюсь за последний участок, отделяющий меня от Соозерской Пустыни. Начало участка такое же затенённое, мокрое. Грунт дороги здесь, к слову сказать, поплотнее - это утрамбованная, твердая глина и нет песка, что не может не радовать. Однако, первые километры настолько закрыты деревьями, что дорога не сохнет, воды в виде луж очень много и я, окончательно измотавшись решаю делать привал. Навигатор показывает 16.8 км и около четырех часов в пути - чудовищно медленно. А погоду меж делом растягивает. Я сижу на закрытом участке, вокруг море травы и подлеска и нет ни единой полянки, горелка пыхтит, стоя прям на дороге, но даже здесь мне отчетливо видно, что высокая облачность расползается, на верхушках все больше золотистого отблеска и долгожданная синева все уверенней проявляется тут и там в виде щелочек и разрывов. А раз так, то не следует заставлять себя ждать, и ограничившись чаем с печеньками, снова двигаюсь в путь. Как это часто случается, долгожданное облегчение, перемена течения жизни происходит именно в тот момент, когда ты уже на пределе, отчаялся. Когда от светлой и радостной полосы тебя отделяет какой-то день, километр, последний потраченный рубль, удар топора или написанная строчка кода. Примеров таких предостаточно в классике и собственный опыт пестрит от подобных событиев. Бывает, сидишь до последнего на работе, не получается что-то, пора быстрее бежать к электричке и вот, в последний момент вдруг срабатывает, находится нужное слово, искомая функция, является вдруг прояснение и над чем безуспешно корпел с самого утра неожиданно получается за эти последние две минуты. Наученный личным опытом, я не выказываю удивления, когда через несколько километров дорога разительно изменяется, над головой расступаются ветви, окружающий воздух теплеет, наверху зажигается солнце, а в моем сердце - надежда. Следов от дождей вдруг становится меньше, дорога все суше и тверже и пропитанный влагой безрадостный день превращается в теплый, искрящийся ранний вечер. Последние капли дождя сияют на листьях еще какое-то время, но вот и их становится меньше и вскоре я уж не еду, лечу со свистом по уверенно пробегающей к Соозерску дороге с обочинами, выстеленными светло-зелеными мхами и кочками, усыпанными краснеющей крупной брусникой. В это действительно трудно поверить, но я теперь уже еду на скорости, наслаждаясь ветерком и полетом, ловя всеми фибрами радость поездки с мелькающими соснами и болотинами. После полутора дней неустанной работы и черепашьего продвижения. Один раз останавливаюсь возле то ль озера, то ли болота - пополнить запасы воды - и снова двигаюсь дальше. Местность теперь отличается. Становится чем-то похожей на окрестности Стрелки, берега Кодимы. Те же ломкие мхи, те же сосны и думаю, такая же высота над уровнем моря. Она пробегает стремительно, ведь я так тороплюсь одолеть как можно большее расстояние, пока позволяет дорога, так опасаюсь поверить тому, что все препятствия позади, что одним единственным махом долетаю до самого озера и спохватываюсь уже, только завидев меж сосен тёмно-синие проблески и заметив у края дороги тот самый знак “Берегите лес от пожара”, возле которого мы оставляли машину в январские праздники 2015-го.
Стоит пройти от дороги какую-нибудь сотню метров и ты обнаруживаешь себя, стоящим на берегу спокойного, тихого озера, окруженного со всех сторон хвойным лесом. Монастырь с этой точки не видно, он надежно укрыт высоченными кедрами так, что даже верхние яруса колокольни и храма, расположившихся в самом начале длинного полуострова не обнаруживают присутствия постороннему наблюдателю. В стародавние времена, во дни основания Соозерской обители монастырь, должно быть, выделялся на фоне ровного озера и различим бывал еще издали, но теперь, когда поднялись, распушились трёхсот-летние кедры уже ничего не увидишь, если не знаешь, что нужно искать. Острый мыс полуострова сильно вдается в середину Соозерского озера, за монастырем следует продолжение кладбища, три-четыре оградки и дальше - тропинка-дорога, идущая до самого берега, где установлен навес с лавочками и столом. Самый край свободного от растительности, с заводями полуострова виден с дороги, до него пятьсот метров по воде или по льду и сегодня, на велике мне приходится объезжать озеро по дороге, делающей петлю и заходящей в Соозерск с севера.
Ласковый, теплый вечер, золото на голубом - синее небо и, наконец-то, летнее солнце - вот как встречает Соозерская Пустынь. Почва все больше песчаная, много ёлок и сосен, августовские желтые травы и кипа пушистых дерев впереди. Дорога, проходя через поле и кладбище тянется прямо к закату и ослепительному светилу, ныряет под сень первых кедров и неожиданно представляет деревянную колокольню. Рядом в земле - большой крест и следом - главное здание, Церковь Живоначальной Троицы. Вот я и на месте. Трудным и полным превратностей и неожиданных встреч вышло мое путешествие и я все еще не до конца понимаю, что я действительно здесь, что мне это не снится, настолько я оглушен нечаянной переменой погоды и ранним, относительно быстрым прибытием к цели поездки. Словно ты ждал и ждал перед запертой дверью и она вдруг, как-то разом открылась ...под окном деревенского дома попросил напиться, а дверь отворила эльфийская королева. И тебя встретила необъяснимая радость и золотистый покой, окунаясь в который забываешь вмиг об усталости, дожде и дороге. Я проезжаю последние метры, приваливаюсь к стволу высокого кедра, ставлю отметку на карте и - конец записи трека.
По мере сближения с полуостровом я все отчетливей понимаю, что в этот раз я, кажется, здесь не один. Еще с того берега можно было расслышать характерные звуки - стук топора, жужжанье пилы и отдельные возгласы, а теперь здесь, под кедрами становится ясно, что те звуки - отсюда. Какие-то добровольцы занялись латанием храма и уборкой на его территории - женщины, повязанные косынками перетаскивают охапки травы и какого-то мусора, мужики увлеченно колотят конструкции непонятного назначения и по первости меня даже расстраивает такое соседство - я приехал глотнуть тишины, заглянуть через околицу мира - что там, с той стороны - а здесь вовсю происходит ремонт и хозяйничанье. Что-то даже схожее с ревностью поднимается на мгновение, толкается в сердце и тревожит какое-то время, не знаю ведь, что за люди и какого мне ждать поворота событий. Умею ли я чинить бензопилы? Таким, вот, вопросом останавливает меня первая тётушка, только я успеваю заехать за покосившийся угол Церкви. И нисколько ее не смущает встреча с человеком на велике посреди здешней пустоши. Весьма ошарашенно отвечаю, что, дескать, сейчас - не умею, я же два дня под дождем и в дороге, какие теперь бензопилы… Её это не сильно расстраивает и я двигаюсь дальше устраиваться, подыскивать место для жизни - поезд мой теперь только завтра, я умудрился приехать почти что за сутки. Погода располагает к прогулке и еще хочется посмотреть Поперечку, разведать, откуда завтра отправится поезд, к тому же еще втайне надеюсь найти в том поселке продуктовый магазин и в магазине - нормальной еды и может быть пива. Ведомый сиими надеждами беру с собой самое ценное, меняю велосипедные туфли на обычные спортивные тапочки и осматриваю для начала берег, после же двигаюсь в направлении Поперечки. Соезерская Пустынь Не страшно потерять уменье удивлять страшнее потерять уменье удивляться Для осознанного течения жизни крайне необходима готовность ко всяческим неожиданностям, к столкновению с неизведанным, с чудом. Следование своим распорядком, привычкам - важный навык, конечно же, позволяющий двигаться трудными водами повседневной действительности, не тонуть в них и не терять силы попусту, отрабатывать однотипные ситуации, не доводя до сознания серость, предсказуемость и повторяемость подавляющей части своей скучной жизни. Нужен он, этот навык. Ненаученные автоматике мы давно бы уже утонули в одноцветной, бескрайней заснеженной степи обыденности. Так что, тем более важно заметить и не проскочить, глядя под ноги перемену в течении, в строгом ритме. Возвращаясь обратно к стоянке и проходя мимо храма пересекаюсь с товарищами, трудящимися возле оного и расспрашиваю их о пути к Поперечке, о работающих магазинах и о расписании поезда. Поезд - да, будет завтра, магазины, наверное, закрыты, а вот помощь посильная не помешала б. Сославшися на тоску по продуктам, усталость и необходимость разведать дорогу назавтра я отговариваюсь, а здоровый детина с крестом на широкой и седовласой груди объясняет, что, дескать, во-первых мы тебя и сами накормим, а во-вторых когда подворачивается вдруг такая возможность потрудиться во славу Божию, занявшись благородным делом восстановления храма - это знак и награда и от такого не стоит отмахиваться, так как в следующий раз может уже не представиться. Детину звать Сергием и он уже в летах, а я неготовый к таким поворотам и уже навострившийся в сторону Поперечки отговариваюсь и в изрядном смущении двигаюсь мимо храма и немногих оградок далее через закатное поле с высокими и уже по-вечернему влажными травами к цели завтрашней части своего приключения. Поперечка - размером с Бестужево - буквально раскинулась поперек речки, слева и справа по течению Сойги. Просторно раскинулась и группы домов не сильно скучкованы друг между другом. Примерно посредь деревни находится мост, что уводит на левый берег реки и селение продолжается дальше, по обе стороны берега. В северной, дальней от дороги и Соозерского озера части - почта и магазин, в южной - платформа, точнее просто тупик, в который приводит узкоколейка. Вокзал - почерневший заброшенный домик и стрелка. Прибывший поезд приходит по одной ветке, заезжает в тупик, пинком сапога машиниста переключается стрелка и состав выезжает обратно по параллельной ветке, все просто. Но и без поезда предприимчивые местные жители умеют использовать эту дорогу, в ходу здесь самодельные Пионерки - дрезины на некрупных колесах, к которым умудряются прицеплять маленькие вагонетки, в вагонетках сидят пассажиры, зачастую в два ряда, дрезина прикрыта лобовым стеклом даже, от ветра. Самостоятельный способ сгонять за продуктами в Авнюгу - крупный поселок на берегу Двины, за грибами, за ягодами. К самому дизельному поезду помимо вагона прикрепляется длинная платформа с низкими бортиками, на ней разрешается провозить габаритные грузы - строительные материалы, коробки, посылки из внешней земли. Проезд - 100 рублей по ценам 2016 года и в цену входит неограниченное количество груза, здесь это в порядке, никто не стремится нажиться на лишней мелочи. При самой Пустыни имеется тоже поселок, на левом берегу в основном, но его жители в зимнее время перебираются в Поперечку, к дороге и магазинам поближе, обживая летние домики и дары озера только в теплое время года. В одном из таких домов живет и хозяйка, принимающая год за годом встреченных мной реставраторов - здоровенной двухэтажной избе с высоким уровнем пола - типичной северной летней постройке. Зимними вариантами здесь считаются небольшие избушки, близкие по размерам и обустройству к баням - их легче протапливать, уровень пола в них существенно ниже - чтобы холодные зимние ветры не замораживали полы прямо в доме. На берегу озера у хозяйки - отдельная кухня, трапезная, рядом - баня. Места здесь весьма интересные и при имении времени предлагающие обширные территории для изучения. Дорога от Поперечки продолжается далее по течению Сойги сначала по правому берегу, в ур. Пеереезд перекидываясь на левый, а после ур. Залесья возвращаясь на правый и уходя лесными массивами вновь выныривает на обозрение, переправившись через Кестваж и дальше свободно бежит к самой Авнюге - неплохой, наверное, путь для колесного транспорта и для пешего. И просматривается на всем своем протяжении, разве что, заслоняемый лесом отрезок меж Кестважем и Залесьем вызывает сомнения. И зимой его могут использовать, это часто случается, что непроезжие летом дебри превращаются в зимник. Проехать бы этой дорогой на велике, поглазеть на былые урочища и попробовать выйти к Авнюге, доказав таким образом, что с северодвинским берегом имеется альтернативное сообщение. Посмотреть речку Сойгу, окруженную в верховьях болотами и разной высоты берегами - и слудами и пологими. А то сплавиться по самой Сойге до устья, любуясь проплывающими мимо лесами, да коротая время в компании. Берега эти на многие километры, кстати, - до слияния с Кестважем - были пожалованы Соезерской обители государем Алексеем Михайловичем еще в 1667-ом годе на сеянные покосы, да на наволочки.
Посещение магазина вызывает улыбку и вызывает в памяти как две капли похожие магазины в Акичкино и Бестужево. Скудный выбор товара - все раскупается сразу же по прибытии поезда - белая печка, странный говор. Хотя не такой, как у старожилов в Акичкино. Вопрос же про пиво вызывает у продавщицы чуть ли не обиду с агрессией - мол, откуда, еще издевается. Чтоб не остаться с пустыми руками покупаю полкило колбасы и возвращаюсь обратно по вечереющей дороге с туманами и комарами, которых вообще, кстати не было все два дня в пути в Соезерье. Туман стелется низко, укрывая поляны, становится сыровато и зябко и я спешу к своей церкви, где меня ожидают ужин, горелка и термо-мешок под кедрами. Ночь спускается в Соезерскую Пустынь. Соседи мои запропали куда-то, не слышно более топора, звуков речи, не видать никакого движения. Небо над озером постепенно темнеет, легкие перистые облака тянутся вдаль, к горизонту. Воздух становится влажным, пахучим и вот замирают последние звуки - ты один на всем острове. Ты и шаги по траве. Позаброшенный монастырь отдыхает средь кедров. Его массивные, крепкие, несмотря на внушительный возраст стены встают то слева от тропки, то справа. Меж колокольней и церковью, среди метровых ветвей виднеется крест и в этих сумерках кажется, что он мерцает будто бы внутренним светом. Бока церкви Троицы потемнели от времени и растрескались и имеют теперь темно-бурый оттенок. Двухъярусный купол с утраченной ныне маковкой венчает восточную сторону храма на высоте многих метров и в таком состоянии выглядит, как буддийская ступа, опоясанная двумя нарядными, некогда, юбками. Деревянная колокольня подымается вровень кедров и ее верхушка подкрашена янтарным закатным солнцем. Все вокруг дышит покоем и какой-то особой, потаённой значительностью. И тебе тоже хочется - проникнуть в покой, причаститься его сокровенного смысла. Наладить дыхание в один такт с покоем, пойти нога в ногу, прислушаться. Обрекши себя на еще один ужин, приготовленный на горелке, отказавшись поработать над храмом сижу на лавке за столиком, установленном здесь же, у берега. Горелка гудит и старается, взрывая воздух шипением, нарушая воцарившееся молчание и раскаляя плоское донце походной посуды. Пол-литра воды, остатки от набранной еще по дороге вскипают за две минуты и на ужин уходит последний пакетик с подобием макарон и китайскими сублиматами. Изделий таких производится прорва. Такая стандартная пища в пакетиках и такие разные судьбы. По всему миру кочуют. И вот пара из них оказалась в самом сердце Архангельской области. Здесь, на столешнице встретились прошлое с настоящим - деревянное, штучное русское зодчество и продукция массового производства. Все, чем снаряжен я сегодня, что так тщательно собиралось в дорогу, что так ценится в нашем мире - и транспорт и техника и одежда - кажется здесь таким временным, преходящим по сравнению с трёхсотлетними стенами, цветущей водою и небом над озером. Захваченный врасплох этими мыслями, иду по тропе вниз по берегу сполоснуть водою тарелку. Над водою - остатки мостков, раскрошившихся, вымокших, но по-прежнему крепких, как и все в этом ламповом, старомодном и несуетном мире. На самом дне возле берега, сполоснувши посуду замечаю вдруг что-то блестящее. Наверное, кто-то из трудников выронил ложку иль вилку. Ан нет, нагибаюсь - очки. Удивительно. Как можно их потерять, не заметив. Ну ладно. На обратном пути оставляю их в центре столика, на таком видном месте заметят. День совсем наклонился к закату, перешел в уже плотные сумерки и мне пора забираться в убежище. Выбрав самый разлапистый кедр с непомерными нижними ветвями - в несколько метров, наверное - стелю на земле сперва пленку, поверх нее велосумку на молнии с ручками, которая мне пригодится для перевозки велика в поезде. Теперь главная часть походной кровати - космический спальник. Первое его испытание. Невесомая штука, рекомендованная суровыми ММБ-шниками, привыкшими спать чуть не на голой земле, идти многие километры, есть и пить на ходу и маниакально экономить на весе. Спас-одеяло (иль спальник) занимает в упакованном виде стандартный карман штанов или куртки, разворачиваясь в рабочем своем состоянии в двухметровый вагон. Его можно использовать вместо спальника, а при желании - как палатку, добавив в углах крепления и натянув верхний край на веревку. Он удерживает тепло на отлично - металлизированная поверхность отражает его изнутри, не выпуская наружу. Одно только горе - за компанию с теплом отражается и вся влага, так что ближе к утру ты уже слушаешь звук весенней капели под крышею и вытираешь лицом и одеждой весь скопившийся конденсат, а его образуется много. Есть и еще один недостаток - эта зараза шуршит, как чемодан шоколадных обёрток при малейшем движении и забираясь поспать ты ощущаешь себя сладкоежкой, утомленным конфетами и уснувшим прям на их куче. Пояснительное отступление Волка ноги кормят Справедливости ради надо отметить, что ночевка в мешке из блестящего целлофана не самое странное, что со мной когда-либо случалось. Бывали ночевки и странноватее. Дело в том, что детство мое протекало у предков мамы в Сафоново. Я проводил там каждое лето и даже жил с бабушкой и ходил в школу непрерывных три года. Помимо бабушки и прабабушки с дедом имелась в наличии и семья Нади - родной сестры моей матери. У них было две девочки, мои сестры. И что самое примечательное - имелся мой дядя по имени Витя. По мере взросления и выхода из ползункового возраста я все больше тянулся к мужицкой компании. Приключения с однокашниками и стояния на ушах с сестрами хороши были по-своему, но все они были одного со мной возраста, то есть были детьми. Мне ж не хватало сурового, резкого юмора, крепкой руки и настоящего взрослого общества с реальными приключениями и правдой жизни. Получить все эти недостающие факторы я мог тогда лишь в одном месте - в семье дяди Вити, который охотно и со свойственной ему одному силой характера - не терпящего возражений, смелого и решительного - брал с собой на ночные рыбалки, за грибами и ягодами. Мечтой запредельного уровня были многодневные выезды на рыбалку. Непоседливый и неутомимый, с пламенным вечным мотором на месте обычного сердца, на своем вездеходном, полностью между прочим перебранном - самостоятельно, прям по винтику - Запорожце дядя Витя изъездил всю Смоленскую область, от края до края. Все озера и реки, леса и болота. Там, где не мог пройти Запорожец оставил свои следы на песке его мотоцикл с коляской ИЖ Юпитер-4, превращенный руками водилы от Бога, умельца, прирожденного инженера и вообще самородка в многоместный и проходимый комбайн многоцелевого назначения. Я не берусь описать, в каких грязях и говнах успел побывал этот корабль бездорожья, из каких передряг выносил. Под дождем, по разбитой дороге, колее глубиной чуть не в метр мы порой продвигались, наклоняясь на 45 градусов так, что я - тогда только ребенок - выглядывая из коляски под самодельным брезентовым тентом видел только покатые, размытые от дождя стены из глины. Но при этом бывал совершенно спокоен, я знал что он вывезет. Дядя Витя всегда вывозил, мы всегда возвращались - к семье и к родителям, и к их родителям. Мама моя волновалась, даже если была в это время в Москве. Но на следующий раз меня отпускали с дядей Витею снова, потому что не я один бывал в нем уверен. Он открыл мне глаза на страну приключений. По его следу, буквально, я ступал по лесам и болотам, учился видеть грибы, знать разнообразные снасти и ловить на них рыбу, готовить приманку, червей, брать с собой нужное снаряжение. Беречь свои вещи и обращаться с техникой, правильно одеваться, потому что от этого зависят твои жизнь и здоровье, а значит успех предприятия. Готовить в походных условиях и ночевать, обходясь без палатки. А главное - видеть всю эту красоту, слышать и примечать, находить в себе чувство комфорта в любых неожиданных и неблагоприятных условиях, оставаться всегда независимым и любить этот труд и лишения, скудность пищи, усилия и родную природу. Тяга к запахам леса, привычка ко мхам и болотам, прелым листьям и черному чаю, комариному звону и стуку капель дождя, дороге и гречке, приготовленной на костре, белым грибам и лисичкам, горкой рассыпанным на полу опосля возвращения, картам, разложенным на столе с мечтами о будущих путешествиях - все это, опять же, оттуда, из детства. Потому что там у меня был проводник и мой первый учитель, дядя Витя. В какой-то момент наши поездки перестали вмещаться в границы Смоленщины. И начало нас заносить на соседние области. Например, на границе с Тверскою имеется озеро под названием Щучье. Вытянуто оно с востока на запад и имеет немалую протяженность, находится в стороне от дорог, а потому как-то раз, я был уж постарше, в очередное паломничество на природу мы отправились мотоциклом и, прибыв на место остановились на северном берегу Щучьего. Дядя Витя, как путешествовавший только посредством мотора и не признававший в то время палаток для походной постели использовал подстилку из веток, машину или еще какое подручное лежбище. Мы ловили с ним днем из лодки, ночью - на донку, сидя при свете фонарика, готовили еду на бензиновом примусе Шмель и спать ложились лишь ненадолго - изо всех сил старались вернуться с уловом. Бывалый рыбак, он использовал лодку не только в роли плавсредства, она заменяла ему и постель. На мягком натянутом дне перевернутой лодки, укрывшийся полиэтиленом он был невидим для постороннего взгляда и недоступен для ливня. Коляска же мотоцикла, как я рассказывал выше была оборудована брезентовым тентом, натянутым на лобовое стекло и подобие арки из металлических трубок. Помимо этого она раздвигалась в длину при необходимости выемки из нее пассажира. В первый же вечер дядя Витя приспособил эту коляску для сна, выстелив что-то на дне - что, уже точно не помню - и накрыв ее сверху все тем же брезентом. Получилось еще одно спальное место. Надо сказать, что на практике применить это место по новому назначению оказалось не так уж и просто - в положении лежа все время как-то так получалось, что задняя часть коляски нависала над верхнею частью туловища в паре см от моей физиономии и как бы я ни старался уснуть, вызывала острые приступы паники и клаустрофобии. По этой причине я несколько раз вскакивал в ужасе, что делать было, опять же, непросто всилу тесноты этого гробика. Окончательно измотавшись, отчаявшись по-человечески выспаться я в конце концов вылез на берег, где и встречал наступление утра. День прошел в рыбной ловле, под неустанные шуточки дяди Вити на тему моих ночных страхов. Зато следующая ночевка полностью компенсировала мои страдания и невыспанность - на прогретой костром земле, на раскиданных углях мы устроили теплое, мягкое, широченное ложе из веток, постелили поверх одеяла и накрылись бушлатами, а для верности - пленкой. Много их с тех пор было - ночевок в походных условиях, и под шелест дождя, и под яростным солнцем, буквально под снегом и в разное время года и на разных широтах. Но вот по качеству сна и ощущению тепла и уюта немногие могут поспорить с той самой ночевкой на Щучьем. Проснулся я поздним утром, мне было тепло, дядя Витя уплыл на рыбалку, а мне не хотелось вставать - так неожиданно по сравнению с прошлой ночью было то чувство. Не знаю, в чем тут все дело, но с того самого времени я всегда чувствую себя комфортно, спокойно в условиях дикой природы. И чем меньше меня окружает людей, чем сильней я оторван от цивилизации и обыденного окружения - тем комфортней. Но думаю, что во многом мои отношения с природой обязаны тому времени, проведенному бок о бок с дядь Витей - его силе, уверенности, увлеченности и спокойствию, что заразили меня однажды, как вирус и теперь уже не отпускают. Дорога, что привела меня этим вечером в Соозерье началась далеко и давно. На Смоленщине.
На пороге неба Кто мог знать, что он - провод День в Соозерской обители начинается светлым утром. Детские голоса и шуршание спас одеяла не оставляют возможности спать и далее. Какие-то пришлые, как и я, собирают опавшие шишки, ходят кругами и переговариваются. Называют меня рыбаком. Частые гости и местные - для них кедры не такая уж и диковинка - ходят за шишками ради орехов, не особенно церемонясь и не обращаясь с ними, как с дивом. Расшелушенные, опустошенные они валяются тут и там - результаты старания сборщиков или птиц, также охочих до сладких орехов. Жаркое утро пятницы - на небе ни облачка, в отдалении - голоса. На удивление выспавшийся в этом мокром мешке я отправляюсь к оконечности полуострова, подсобрав предварительно шишек. Там установлен еще один столик - доски и лавка под легким навесом. Вода здесь подбирается близко к берегу - небольшая ступенька и сразу идет понижение. Хорошее место для лодки или для плавания. Заплыв, омовение в озере и легкий завтрак на лавочке - что еще нужно столичному жителю вдали от Москвы в будний день утром. Весь мой опыт строительства в деревенских условиях заключается в выстругивании потолка в дедовом доме и отдельных ремонтных работах на базе в Акичкино. Отойдя с почетом на пенсию и заслуживши за время работы ряд наградных медалей и грамот дед мой, Федор Васильевич Гребнев, уроженец деревни Саксоны, что возле города Велижа в Смоленской губернии, деревенщина и бессребреник по природе, так и не развивший привычку к обустроенной жизни в городской и уютной квартире, не смог сидеть дома спокойно, полеживая на диване и посиживая за карточным столиком во дворе и потянулся к истокам, на землю. А заодно и к работе, без которой он жизни не видел. И в пяти километрах от Сафоново в скромной точке на карте под названием Кряжево разыскал поначалу товарища. Его новый знакомец жил в деревянном вагончике, приспособленном под жилье. Ну, не жил, а наведывался. Но что самое интересное - занимался там пчелами и имел уже несколько домиков с ульями и был вовсе не против соседства и с готовностью принялся передавать деду опыт и знание пчеловодства. Выделил даже два домика. Так просто, даром. Мужики подружились и теперь уже дед - пенсионного возраста - проводил все свободное время в походах на пасеку. А его новый сосед был немолод, да и вскорости помер, оставив в наследство участок и всех своих пчел другу Федору. Оказавшись на старости лет вдруг владельцем земельных угодий, да еще и с источником меда впридачу, дедушка мой не заставил себя долго ждать. Не заставила ждать и привычка к работе и стремление быть хозяином на земле. Русские люди умеют работать, когда есть то, к чему можно стремиться, чего жаждешь ты всей душой. И когда есть еще те, для кого бы ты мог работать. Стояли тогда девяностые годы, порядка особого не было и мой дед без усилий оформил какое-то право на землю, причем на приличный участок, соток так пятьдесят. Он обнес землю забором, распахал большой куш под картошку, обустроил и грядки. Столяр, кузнец, плотник - дед своими руками построил избу-пятистенок и хлев. Он держал и свиней и курей, даже кроликов. Урожая картошки хватало не только на них самих с бабушкой, но и на внуков - семью тёти Нади и нашу. И оставалось еще на продажу. Да и пчелиные семьи росли, из оставленных ему пяти - шести домиков в лучшие годы получалось уже почти двадцать семей, двадцать ульев. А специальная медогонная бочка - внутри центрифуга - постоянно хранилась в сарае. Медом дед обеспечивал не только всех внуков, но и отвозил еще что-то на рынок. Старый уже, но по-прежнему крепкий он начал новую жизнь на пенсии. Жизнь, все так же наполненную и трудом и заботой о близких. Стремленьем к спокойствию, тишине и усидчивости и особому деревенскому складу - независимости и ответственности. Руки были все время работе, старые ноги крепко держали его на земле, а в костях была мудрость. И если есть во мне капля этой ответственности, привычка спрашивать лишь с себя и надеяться лишь на себя - от него все, от Федор Васильевича, деда Феди. Этот дом, эта пасека стала для деда своего рода Крыжовником, но в отличие от чеховского персонажа он охотно старался, делился плодами трудов и себе мало что оставлял, находя свое счастье в заботе и такой, вот, хозяйственной жизни. В обособленности, независимости с осознанием нужности и богатством, которым он в состоянии поделиться. Богатством деревенского производства, богатством души, чистой совестью. Даже в старости он мало ждал помощи, предпочитая быть помогающим, оставаясь радушным и независимым одновременно. И когда строился первый дом, он стволы брал из ближнего леса, сам пилил, сам корил, клал фундамент. Строить хлев помогала Наташа - сестра моя, дочь Нади с Витей. А вот потолочные доски для дома выстругивал я - дед не отказывался от помощи, следя строго за качеством, но не нагружая объемом работы. Мы сходились на этой земле поработать, просто встретиться, кто-то в отпуске, кто пока что еще на каникулах. Помогали копать и пропалывать, дядя Витя развозил урожай по квартирам, довозя в том числе до Москвы. А дед из года в год оставался, продолжал заниматься хозяйством. Был для нас знаменателем и основой. Уже десять лет, как он помер, без него захирело имение, но последние банки меда мы едим до сих пор, вспоминая его и надеясь, что и окромя меда осталось в нас что-то гребневское, что-то цельное и хорошее, перешедшее к нам от любимого предка. А от церкви тем временем вновь слышны звуки строительства. Памятуя о данном вчера обещании отправляюсь в ту сторону. Южный бок церкви облеплен лесами - они подбираются к самой крыше и на верхнем настиле возвышается муж с седой бородой. Двое отроков что-то пилят, колотят и подымают наверх на веревках. Одетые по православным обычаям женщины - платки, длинные юбки - косят, таскают сорные травы. Замечают мое приближение.
Так я напрашиваюсь на работу. Лезть наверх не то, что бы страшно, но боязно - леса приколочены наспех, как временные. Пара гвоздей - все, чем цепляется перекладина к стенке. Сами стены строения давно уж не только потрескались, но и сильно прогнили и выветрились. Скорее на честном слове и духе, чем на прочности держатся. Пара досок, перекинутых на поперечинах - это этаж. Еще. Следующий. Забираюсь наверх. Как звать? Сергей. Стало быть, тёзка. В общем, наша задача - затаскивать наверх доски и палки и достраивать дальше леса. Так, чтобы можно было забраться на крышу. Как доберемся до крыши - так станем затаскивать рубероид и там его расстилать.
Постепенно я, вроде, осваиваюсь. Хождение по незакрепленным доскам требует навыка так же, как требует навыка, например, хождение по палубе в качку. Построив очередной этаж мы используем доски с нижнего, ненужного более этажа для строительства следующего. И так медленно поднимаемся выше. Строим и разбираем, строим и разбираем. Спуститься на землю теперь можно только пройдя прям в окно, что ведет внутрь храма - на него перекинута пара досок. Сбрасываем вниз веревки, там к ним привязывают перекладины, затягиваем их наверх, закрепляем еще один уровень. Просто. Тут к лесам подступается местная матушка:
Смеются. Появляется и вчерашний детина, тот, с крестом на широкой груди, что меня уговаривал потрудиться над храмом. Вольный ветер ворочает седовласую бороду, шевелит непослушные кудри и ворот помятой рубахи. У детины в руках вроде книжка. Долго молча любуется, как другие работают. А потом начинает рассказывать, как вчера после трапезы выронил где-то очки и теперь - незадача. Вот. Без них, как без рук. Ненавязчиво спрашиваю, продолжая затягивать наверх веревку:
И ведь правда пошел. И поставил. А тем временем девушки, перестав заниматься прополкой перешли внутрь храма и там затянули - голосочками чистыми, как ручьи, что спешат после летних дождей по дороге сюда, в Соезерье - песнопения. Мы стояли на уровне окон и слушали. Поднимались все выше, все к небу и укладывали, приколачивали. А внутри пели ангелы. И воспрянувший Сергий, в обретенных очках и с молитвенником вторил гласом серьезным и строгим. Зелень кедров едва колыхалась у озера, плыли редкие облака, руки заняты были работой. И все мысли укладывались, уминались и растворялись под ласковым Солнышком. А я чувствовал себя молотком, впервые занявшимся подходящей работой. Выполнявшим всю жизнь роль отвертки, ключа, пассатижей и по случаю, вдруг, открывшим настоящее свое назначение. Неожиданно осознавшим, для чего он сюда так стремился. Мы поднялись на крышу. Отсюда видно все озеро - ее блестящая гладь, покрытая мелким волнением. С трех сторон озеро и лишь за спиной где-то поле, закрытое нынче ветками. Из этой точки ты видишь всю незначительность достижений и побед над страхами, комплексами. Понимаешь вдруг разницу между жизнью духовною и обыденной, соображением пользы, здоровья и выгоды. Что есть духовная жизнь? Да бессмыслица. Ну, какой в этом смысл - в отдирании рубероида и замене его на новый, пролежавший лет десять под солнцем, когда пройдет пара лет - и вот он в состоянии старого. Какой смысл менять эти доски, если еще шесть лет назад предыдущие точно так же меняли на новые. И не было бы лучше для общества, если б мы были заняты созидательным чем-то, оправданным, долговечным. С точки зрения здравого смысла - конечно. Но в отличие от спорта и экономики жизнь духовная ставит целью не пользу. Она вредна для здоровья, бессмысленна. А награда за ведение этой жизни стоит по ту сторону от усталости и терпения. Она скорей вопреки и вообще неожиданна. Теперь нашей задачей является отдирание досок и разглаживание старого рубероида перед настилкою нового. Новый лишь относительно свежий и поэтому старый мы оставляем. При хожденьи по крыше нам приходится от конька пробираться до самых углов, ползая под наклоном. Мы привязываемся к коньку с помощью длинных и крепких чалок. Чалку пристегиваем карабином к обвязке, надетой поверх одежды. Выпуская чалку на полную ты дотягиваешься до угла, выбирая свободной рукой приближаешься к ближнему краю или обратно, к коньку. Так и ходим. Отрываем ссохшийся тес гвоздодером, гвозди складываем в карман, а тес скидываем. Сергий следит за порядком, приколачивает, парни поднимают наверх свежие доски, я в основном отдираю. В крышу легко провалиться - местами она вовсе прогнила и тонкий слой снизу едва прикрывает прорехи.
Становится жарковато и я - по свежим лесам и в окошечко - опускаюсь на землю, чтобы сходить за квасом, купленным в Поперечке. Появленье холодного кваса здесь встречается с одобрением. Поработали и вот - благодать, улыбаются парни. Делаем перерыв и пьем квас, любуясь на озеро. Видим, как женщины, покончив с прополкою направляются к берегу для купания.
Я мало что знаю об этой компании - незнакомой и неожиданной, не от мира сего, непривычной. Непонятно, но накрепко спаянной. Сергий и жена его - матушка - центр общества. Реставратора тоже звать Сергием. Четверо девушек, двое юношей. И молчаливый и скромный мужчина - самый, пожалуй, загадочный, примечательный член компании - я не слышал, что бы он разговаривал и не узнал его имени. Старается он отдельно, на нижнем ярусе, покрывающем лестницу. Всего - девять хранителей, ежели не считать реставратора, товарища постороннего, оказавшегося здесь по случаю. Замкнутая компания, будто живущая по давно похороненным правилам, игнорирующая реальность и все те потрясения, изменившие нашу действительность за последние тройку столетий. Практикующая образ жизни, сохранившая лица, в которых угадывается еще то самобытное, допетровское православие. Непривычное поведение, непривычные термины. Доколачивая рубероид собираемся отобедать, и я рад быть вместе с ними.
Поселение раскинулось на обоих берегах речки. Сойга здесь вытекает из озера и в начале уже полноводная, запросто не переедешь. Ближайший мост - в Поперечке. Артельщиков принимает местная женщина, они живут в большом доме и трапезничают в отдельной избушке - тут она вроде кухни, со собственной печкой, длинным столиком с лавками. И попасть на ту сторону можно только на лодке по озеру. Первая партия убыла, пока мы доколачивали и теперь вчетвером догоняем компанию. В помещеньи простое убранство, ну а в красном углу - иконы. Перед трапезой все поют Отче наш и мне, нерадивому христианину стыдно - я слова еле помню, но с грехом пополам подпеваю и мы наконец-то усаживаемся. Настоящая пища - рис, овощи, суп и салаты - после трех дней пакетиков, гелей и неразваренной каши. Да еще после славного поприща. Молчаливое поедание, и сопение, теснота за столом - не в обиде. Хлеб и стук ложек, морс из лесных ягод - все бок о бок с собратьями, хоть непривычными и случайными, но по-своему близкими. Все расспрашивают о дороге, приведшей меня в Соозерье. Я отвечаю про волка и дождь, про Акичкино. Улыбаются. Убираются со стола и мне тоже пора двигать к поезду. И тут матушка просит спеть, не меня просит - девушек. Марину, зовите Марину!… Вот они, наконец, собираются. Приготовившись, запевают. В песне что-то про девушку, провожающую моряка в его плаванье. Парни тоже подтягивают. Жаль, что нету гитары и мне нечем ответить на хлеб и радушие, подхватить настроение. Остается сказать лишь - спасибо, неохотно прощаясь с компанией, Соезерском и, уже почти, с этим отпуском. Авнюга Как бы я ни хотел задержаться, но в 17:40 ждет поезд - один из двух на неделе. И он - единственная возможность попасть из глуши Соезерска на трассу до Котласа. Мы прощаемся на крылечке. Неразговорчивый мужичина подходит ко мне, обнимает и будто бы хочет сказать что-то на ухо, но то старинное троекратное лобызание - вот, я снова проваливаюсь. Все ж я в этой компании, словно в кроликовой норе и на каждом шагу теряюсь. И хозяйка подходит с вопросом - мне в которую сторону? Мне на тот берег озера - там мой велик и вещи.
Я опять ошарашен, по контрасту с недавней любезностью. Но то просто манера общения и означает она всего-навсего, что нам в разные стороны. Про себя улыбаясь, я двигаюсь к лодке и Сергий отвозит обратно, до велика, где мы окончательно уж прощаемся. Сейчас в это трудно поверить, но в советские годы лесная промышленность формировала структуру и облик современного севера. Дороги, поселки, деревни - не что иное, как результат освоения лесного фонда. Народ ехал в провинцию. Прокладывались дороги в непроходимых дебрях, лес вывозился к рекам для сплава, в ходу были профессии, о которых жители нынешних городов и не слышали: сучкорубы, сплавщики, мотористы трелевочников. На заготовках работали тысячи, а аппетиты промышленности были великими и пути проникали все глубже. Шла техника, управляемая людьми, а человеку нужно, где жить. На путях возникали урочища с лесопунктами. И пути эти были не всегда автотранспортными. Современные топо-карты, как и советские по сию пору исчерчены сложными линиями и изломами железных дорог. Все, что мы видим сегодня со спутника и на картах - все эти ниточки, пронизывающие зелень хвойных лесов - след бывшей когда-то активности, бурлящей, кипучей жизни, охватывавшей русский север, деятельной и энергичной. Лесные просторы давали жизнь людям. Работу, дома. Ну, а узкоколейки прокладывались сумасшедшими темпами, рассекая тайгу и болота. Наш Устьянский район с Верхнетоемским связан был не одной только веткой. Авнюгская УЖД, от которой остался теперь лишь участок до Сойги проходила и дальше на запад, за границу района. Но и с юга, от Квазеньги с Первомайским шли дороги на север, подвозили лес к Устье. Сама Авнюгская УЖД заработала в 1958-ом годе, а с 80-хх годов уже была сомкнута во единую сеть и с Устьянскими ветками, и такое решение давало возможность менять направление вывоза добычи - к Устье или к Двине, в зависимости от времени года и уреза воды в этих реках. К 90-м годам и связка и Устьянские ветки прекратили свое существование. А вот Авнюга продолжала трудиться вплоть до 2011-го. Тогда западный ус был разобран, и только участок, ведущий до Сойги все еще сохранился - для нужд остающихся жителей. А рельсы от разобранного участка до сих пор пригождаются для поддержания Сойговской ветки.
Тепловоз легко пышет по рельсам, неспешно. Тарахтит, улюлюкует дизель и расшатанная платформа, груженная брусом, мешками с пожитками - неручной кладью попутчиков, да моим ржавым великом погромыхивает бортами и качается в поворотах. Я решил ехать сверху, любоваться болотами, лесом и разгулявшимся августом. Железнодорожная насыпь петляет между сросшихся елей и березовых веток. Тепловоз раздвигает своим бурым брюхом чащобу, как настоящий хозяин тайги: величаво, степенно. Выныривает на просторы и топочет уже по болотам. Мелькают березки и сосенки, растущие на торфянике. А умытое Солнышко светит в мелкую рябь облаков, покрывающих синюю бездну от запада до востока, от юга до севера. Ветерок продувает окрестности и до сих пор сыроватую от позавчерашней езды одежду.
Ветка до Поперечки пересекает несколько речек - Кестваж, Мармаш и Маневу. Мосты через них по-архангельски основательные, хотя уже и запущенные. А окромя поезда бегут по этим мостам Пионерки - бешеные табуретки, прозванные так в народе за их легкий нрав, поворотливость, проходимость и неприхотливость в обслуживании. В большинстве своем - самоделки, творение деревенских Кулибиных, мастеров на все руки, находящих выход из любой ситуации и не надеющихся на правительство, общественный транспорт, систему. Вот и сейчас, при отправлении поезда мы разошлись с одной из таких самоделок, прибывающей в Поперечку, а приблизившись к Авнюге - со второй, поджидающей на развилке поезда, чтобы пуститься в свой путь домой, к Сойге. Что еще примечательно, что вторая дрезина волокла за собой небольшую платформу, аж с шестью пассажирами, рюкзаками, покупками - люди здесь независимы, предприимчивы. Не от сказочной жизни, конечно же.
Вот и Авнюга. По дороге нас еще полило легким дождиком, но он быстро закончился, сдался и, поворчав, потянулся на запад - искать себе новые поприща. Я же стягиваю велосипед с платформы и отправляюсь в поселок, до сих пор на отдельных картах обозначаемый УЖД - исторически так сложилось, что построенная здесь дорога стала первым названием самого населенного пункта. Здесь работает телефон и от первого же магазина я отстукиваю sms: жив, здоров, все прекрасно. Хочу в кратеньком сообщении изложить суть событий, но это едва выполнимо и в развернутом виде, уж больно насыщенным вышло мое приключение. Оставляя затею рассказа до времени, я встаю на ночевку, последнюю. Обязательный исторический экскурс На кочках - цветочки за кочками - лес На рубеже перестроечных 80-хх и лихих 90-хх ближайший друг и сподвижник ПЛ - Константиныч (Борис Гончаров), работавший в те времена в школе вместе с ПЛ сплавлялся в одном своем летнем походе по Устье. Вода и судьбинушка вынесли незатейливые его плавсредства аккуратно к той самой излучине, к высокому берегу, венчает который Шалимова - прозванная так в народе открытая всем ветрам вершина крутого подъема (иль спуска) по правую сторону от течения. Сюда же, к излучине прибегает и Верюга, принося с севера торфяные воды, собранные по пути из болот и более мелких притоков. Берега, обрамленные лесом будто волнами поднимаются по обе стороны Устьи. Тут и там жмутся к воде деревеньки - не слишком плотно друг к другу. За полями вздымается лес и в нехоженой его чаще - мхи и болота, грибы, ягоды, птицы. А с вершины Шалимовой видны оба участка течения Устьи - и юго-западное направление (низ по течению) и юго-восточное (верх). Над головой расстилается близкое небо и при ясной погоде видимость - рукой не достать. Места эти сразу же и навсегда пленили Борис Константиныча. И захотелось вернуться. Возвращение вышло нельзя сказать, чтобы быстрым. Оно получилось окольным, но именно этому способу возвращения многие, побывавшие позже в Акичкино и окрестностях могут считаться обязанными. Изыскав возможность приехать в Бестужево в зимнее время учителя нашей школы, вдохновленные Константинычем как-то связались с Шульгой - личностью легендарной и теперь уже даже мифической, к сожалению. Интеллигент и общественный деятель, энтузиаст и спортсмен - ко многим событиям культурной жизни Бестужево приложивший в восьмидесятые свою руку - он заслуживает отдельного описания, конечно. Вот и первые посещения Бестужево Константинычем и ПЛ с 52-ой школой связаны с этим именем, а как в точности - лучше бы рассказали сами участники тех событий. Но так или иначе, а с 1990-го года примерно наши школьники стали ездить на осенне-весенние каникулы отдыхать к берегам Устьи. Жили по первости в здании местной школы. Ходили на лыжах по местности, добираясь почти до Акичкино и распугивая местных медведей, отпариваясь после походов в настоящей северной бане и засыпая под трещание печки. Так состоялось около двух поездок. Но крючок, плотно сдобренный статью севера проглочен был уж на совесть, так что зимними выездами дело, конечно, не кончилось. Переняв эстафету, ПЛ начал собственные продвиженья. И летом 1990-го года, кажется (точнее он может сказать) провел часть своего отпуска в компании отца и брата с друзьями на заливном лугу, образованном изгибом Верюги меж Акичкино и Сметаной. Луг тот, под названьем Малиновец покрывается весь водой во время весеннего паводка, а летом - высокими травами. В последние годы существования Союза те территории принадлежали, как видно, еще бывшему тогда же колхозу и мужики подрядились косить те высокие травы. И правда, косили и укладывали в стога. Ловили в реке разнообразную вкусную рыбку, да ходили пешком за молоком на молочную ферму в 5-ти километрах, в Акичкино. Молока пили немало, по-взрослому, так что и носить его приходилось в изрядном количестве - 20-литровый армейский бидон, в термосе с двумя ручками. Так и ходили, по истоптанному проселку, меняя по времени руки. Все 5 километров. Трава в те счастливые времена была зеленее, не то что сейчас. Небо не в пример синее и здоровьица мужикам девать было некуда. А после подобных поездок - тем более. В царские еще времена, в начале 20-го века жил был в Акичкино мельник со своею старухой. У самого синего моря берега Верюги. Там он поставил свой большой дом рядом с мельницей. Мельница стояла в специально устроенной заводи с ямою. Но нагрянула революция и дом мельника опустел. И перевезен был позднее разобранным чуть подалее, в стороне от Акичкино, ниже чутка по течению, а по берегу - выше. И устроена была теперь в этом доме советская сельская школа. И работала долгие годы. В здании школы жил сам учитель, могли размещаться и дети - второй этаж полностью был жилым и отапливался в зимнее время. Нижний этаж отводился под классы и кухню. Тоже, естественно, с отоплением. Но постепенно и эта страница в истории дома подошла к завершению, школа закрылась и еще многие годы дом оставался заброшенным - частично без пола и окон, без электрики, в запустении. И вот, в 1990-ом году у здания появляется новый хозяин - Московская школа за номером 52. ПЛ, возвратившись из отпуска обращается к администрации с сумасшедшей идеей - организацией учебно-полевой практики и по совместительству - спортивной базы для школьников на основе и в здании этого бывшего дома мельника. И московская школа берет на баланс дом в Акичкино. Идея же эта захватывает ПЛ целиком и с 1991-го года он все летнее время проводит здесь, на Верюге, обустраивая, ремонтируя и расширяя северное имение Alma mater. Современное общество все настойчивей приучает нас к разделению труда, отчуждению. Мы работаем по своим специальностям для незнакомых людей. Пока другие совсем незнакомые обслуживают наши потребности. Я занят воплощением мечты посторонних и меня посторонние люди везут на работу и ремонтируют мне квартиру. Я хочу сам ремонтировать - но нельзя, мне пора на работу. Посторонние учат наших детей и продают неподконтрольно выращенные продукты. И даже плохо не то, что никто друг друга не знает и доверять, по-большому, не может. А то, что человек лишается независимости и уже не умеет всю свою жизнь обустраивать самостоятельно. И не свои мечты проживает. Все должно быть доверено специалистам. Не специалист - не трогай. Но в советские времена все так не было. В особенности в деревне, где люди всегда предоставлены сами себе. Историю делают личности. Она вершится руками деревенских Кулибиных, энтузиастов, мастеров на все руки. Смельчаков и авантюристов, дерзающих делать то, что другие не пробовали. Не ожидающих разрешения. Вот и турбаза в Акичкино построена руками романтиков. Флибустьеров двадцатого века, искателей приключений. До 90-хх годов моста через Верюгу не было, его построили году в 1995-ом примерно. Единственным способом сообщения был тогда трактор и тракторный брод - для магазина, почты и фермы. Прочим же приходилось буквально таскать на горбу снаряжение, инструменты, продукты и малых детей, между прочим. От Бестужево и до Акичкино. Автобус от поезда шел лишь до Бестужево. Но даже с появлением возможности заказа автобуса путь от Верюги до турбазы оставался все ж пешим. И в 1993-м году первый лагерь проходил в еще неразобранном и лишенном окон и электричества доме. На первом этаже отсутствовала часть пола, чердак был завален какими-то залежами. Не было летней кухни и бани, готовили на всю толпу в 25 человек в наспех вырытой костровой яме на полянке у дома. Над ямою был натянут навес из пары срезанных веток и полиэтилена, но в дождливые дни он совсем не спасал - воду из ямы в процессе готовки приходилось вычерпывать, как из простреленной лодки. Дров тоже не было, заказали первую партию непоколотых лишь к середине поездки, наверное. Зато было лето, тайга. Три недели тайги! Первый раз в жизни. И море грибов в тайге. И молоко каждый вечер, потому что ферма еще работала и масло из этого молока и сметана и простокваша. Грибы со сметаной, картофель все с той же сметаной. И Верюга и разнотравие в поле и вечера с гитарой при свечках. Я помню, вернувшись из этой поездки я первый и предпоследний раз в жизни почувствовал тесноту московской квартиры и долго еще не мог вспомнить, кто я, что я здесь делаю, где что находится. Я чувствовал себя, как Алиса съевшая кусок расти-булки. И сшибал все углы. Следом был 1994-й, когда построили баню, очистили и обклеили потолки, провели электричество, починили, покрасили рамы. И 1997-й, когда сложили еще один дом на Сметане, теперь переехавший к основному, в Акичкино. И последующие - перестраивался летний навес, проводили и улучшали мостки, чинили крышу, обклеивали обоями второй этаж. В 2000-ом появилась пристройка - камеральная, в 2002-ом перегородка в бане. Утепляли второй этаж и перекладывали кирпичные печки. И далее и так далее. Турбаза живет и ширится до сих пор. Уже более четверти века и, даст Бог, треть жизни. Уже есть второй корпус, поставлены железные печки, отремонтированы полы, кладовые, кое-где поднят фундамент. Мы как-то раз посчитали количество годовых колец в бревнах нижнего яруса, самых здоровых и сбились на сотне, а значит с учетом возраста дома, которому больше ста лет те деревья родились почти 250 лет назад. Около четверти тысячелетия. Я б хотел рассказать о научных программах и достижениях, если бы разбирался в вопросе. Просто знаю, что их также не меньше, чем колец на деревьях. Каждый год здесь проводится лагерь и все разные, говорю как свидетель. И не только для нашей школы. Долгое время уже приезжает МГУ-шный кружок с кафедры высших растений. И 226 школа Москвы, где работают друзья Павла Львовича много лет проводила в Акичкино лагерь. Каждый год эти люди принимают ответственность за два-три десятка детей и везут их на север. Потому что такой, вот, им видится жизнь - полной деятельности, движенья и смысла. Полной юмора, трудностей, красоты. И они делятся красотой, не прекращают делиться. Может быть устают, каждый год. Но все равно продолжают. Боятся за каждого взятого школьника, но все равно делают. Спортсмены и физики, биологи, математики, химики своей верой, упорством, характером, настроением, своими руками построили, возвели на обломках храм знания и просто оазис нормальной жизни, которая - огромная редкость в современном нам мире. И доказали попутно, что для того, чтобы работу работать необязательно быть дипломированным специалистом. Что ежели не побояться, то можно взяться и сделать, не по своей специальности, а просто по совести и горению сердца, по вдохновению. И я может быть совсем крамольную вещь скажу, но мне кажется, что именно в стенах Акичкинского филиала им удалось сохранить частичку той самой 52-ой, которой уже не осталось в Москве.
От вдохновителя к вдохновителю. От Шульги к Константинычу, Львовичу. От рассказов и мифов до практики перетекает жизнь в Акичкино и окрестностях. Руками, ногами обычных, казалось, людей мечты воплощаются и становятся базой, основой, питательной почвой для последующих поколений. Нас много перебывало в Акичкино. И каждый что-то унес, какое-то впечатление. Хотелось бы верить. Я, во всяком случае часто так думаю - а что было бы, если бы… Не попади я в 93-м в Акичкино, не прикоснись я случайно к реальности, что стала теперь неотъемлемой частью жизни. На самом деле становится жутковато. Так что, сегодня особенно остро испытываешь ко всем людям, познакомившим меня с этим миром чудес - благодарность. История базы в Акичкино - это длинная, отдельная книга. Даже если рассказывать с точки зрения одного наблюдателя. Здесь хочу только заметить, что путешествие в Соезерскую Пустынь стало лишь одним эпизодом в полнокровной и разнообразной истории жизни на севере. Вдохновлено было этой историей и без нее никогда бы не стало возможным. Наверное ;)) Эгоистичный миф Кто верит в Магомета, кто - в Аллаха, кто - в Исуса, Кто ни во что не верит - даже в черта, назло всем, Хорошую религию придумали индусы: Что мы, отдав концы, не умираем насовсем. Дарвинист и эволюционный биолог Ричард Докинз из Англии в 1976-ом году выпустил в свет интересную книгу “Эгоистичный ген”. В этой книге он выдвинул новый взгляд на отбор, эволюцию. Сохранив вцелом верность теории Дарвина, Докинз смело поставил на место элементарной частицы отбора, исторически занимаемое отдельно взятыми особями гораздо более мелкую сущность - ген. Не особи борются за выживание, сказал миру Докинз. Не особи мутируют и приспосабливаются, передавая удачные мутации своим детям и внукам, устраняя в конкурентной борьбе прочих, неудачливых индивидуумов. Выживанием занимаются гены, мы для них - лишь вместилища. В первородном бульоне, которым являлась когда-то планета Земля, случайно возникли прообразы - прадедушки и прабабушки - нынешних ДНК, простые цепочки белковых молекул. Некоторые из цепочек не выжили, вернулись обратно в бульон в развалившемся состоянии, и пошли на корм более приспособленным. Другие же связи оказались покрепче и поустойчивее. Природа вообще опирается на устойчивость. Самая простая, стабильная форма в условиях невесомости - шар, самая короткая дорога - прямая, а прародителями наших генов стали самые эффективные и стабильные сочетания первых молекул. Они умели хранить однажды найденную структуру и добывать себе пищу и главное - продолжаться во времени с этой структурой, то есть самокопироваться. Прошло несколько лет, миллиард или около. Пища - разрозненные молекулы - в мировом океане стала редкостью. Зато он наполнился стабильными формами. Разными видами форм. И теперь, чтобы выжить и продолжить свой род в уходящей вперед бесконечности этим формам пришлось вырабатывать новые системы и навыки. Системы двух типов - нападения и защиты. Окружать себя более сложной структурой и двигаться в поисках пищи. Так появились клетки - окруженные защитным слоем, мембраной, сложные организмы. Некоторые научились плыть в сторону света, ставшим для них источником энергии, другие - использовать более хищные способы добычи строительных блоков. Но какой бы путь ни был выбран, какими бы сложными и причудливыми ни казались нам организмы сегодня - внутри каждой особи, внутри любой её клетки всё так же живут наследники тех репликаторов - древних предков современных цепочек из генов - возникших когда-то в первичном бульоне желающих выжить структур из молекул. Сложные цели рождают сложные способы. Миллиард лет назад, чтобы выжить, репликаторам было достаточно соблюдать испытанный способ копирования, но сегодня им требуются тела - многократно превосходящие их самих по размерам, сложноустроенные, сбалансированные экзоскелеты. Объединившиеся в незапамятные времена в более длинные цепи простые белковые репликаторы со временем разработали, вырастили для защиты и сохранения закодированной в своей структуре наследственной информации живые контейнеры - клетки. Позже - колонии одинаковых клеток. И многоклеточные, наконец, организмы из разного рода клеток, выполняющих разные функции. Агрессивные вирусы, растения с их фотосинтезом, грибы и бактерии, человек и животные многочисленных видов - плавающие и летающие, наземные и амфибии, травоядные, хищники, глубоководные рыбы и ядовитые насекомые, мхи и актинии - результаты рождения сложности и далекое следствие стартовавшей миллиард лет назад конкурентной борьбы меж пра-генами на бывшей когда-то безлюдной планете. Годы шли. Поколения переплёвывали поколения, меняли среду обитания. Заходили в тупики, вымирали. Древо жизни ветвилось и растекалось по миру, наощупь, ценой проб и ошибок отбирая мутации, позволявшие выжить и обставить соперника - в скорости, толще брони, крепости челюстей, во всеядности. Появлялись глаза, фотосинтез, дыхание, плавники превращались в конечности и вот наземные позвоночные подошли к освоению неизведанных территорий. Конечности обросли перьями, удлинились и новые виды поднялись, оторвались от пронырливых хищников в небо и заработали преимущество. Жизнь распространилась повсюду - от холодных придонных вод Арктики до пустыней, поставив цель - выжить, продлить существование во времени. А весь ценный опыт, все удачные изменения, память череды поколений исправно записывались, закреплялись в бессмертных белковых носителях - генах. Контейнеры изменялись - изменялись и гены, сохраняя, наматывая, удлиняя цепочки удачными дополнениями. Неудачные отбраковывались и сгорали в горниле истории. В стремлении сохранить свою целостность комбинации генов шли на всевозможные ухищрения, занимая уникальные ниши, увеличивая размеры своих машин выживания, мозга, оттачивая рефлексы, делая яркой окраску, снабжая их ядом и мимикрируя под ядовитых соперников. Одной ветке развития преимущество придали сильные мускулы, другой - острый нюх или зрение, а некоторым - многочисленность, быстрота производства и умение жить в самых диких условиях. Но какие бы способы процветания ни нашла эволюция, под покровом видового многообразия - многообразие внутреннее. Хитроумные репликаторы, кочуя из поколения в поколение, из века в век часто бывают в выигрыше. Куда чаще нас, грешных. Геном нынешнего человека содержит в себе много общего с геномом далекого предка, изошедшего за несколько сот тысяч лет до Рождества Христова из Африки, а геном неандертальца схож с нашим на 99.5%. С земноводными, птицами, рыбами - у нас тоже имеются общие гены, хоть работают они зачастую по-разному. На определенном этапе развития эмбрион человека на отличить от акульего, на другом - от зародыша поросёнка. С той только разницей, что из клеток одной из жаберных дуг у акулы развиваются специальные косточки, помогающие ей двигать челюстью, у человека же - косточки среднего уха. Что мешает нам становиться акулой? Все те же гены - инструкторы, сидящие в клетках. Принимается за работу нужная группа инструкций и клетки 2-ой дуги начинают делиться и превращаются в хрящики. Только у нас из них вырастает гиоид и стремечко, а у акулы - две кости, помогающие движению нижней и верхней челюстей соответственно. Среднее ухо оделяет нас слухом, гиоид - механизмом глотания. Те же самые клетки акулы разрастаются в кости, помогающие ей в момент нападения выдвигать вперед челюсть - устрашающий навык, так удачно обыгранный Ридли Скоттом в его фильме Чужой. Эмбрион человека не развивается как акула, потому что в программе развития каждого вида есть свои планы, инструкции. И несмотря на наличие общего предка и отражение этой истории в анатомии эмбриона взрослые особи различаются. Нет, не быть тебе хищником, зубастой акулой, ты не останешься на всю жизнь поросёнком, из тебя еще вырастет человек - заявляют нам гены. И не оставляют выбора. Продолжительность жизни особи невеликая. Механизмы старения и накапливающиеся ошибки в делении клеток сводят на нет все занятия спортом, охотой, правильный образ жизни, здоровое питание из овощей, фруктов или печени собратьев по выживанию - смотря к какому вы относитесь виду. Даже долгоживущее дерево умирает. И хорошо - причем всем, заметьте - если особь оставляет потомство. Особи хорошо - считая себя самым лучшим творением, она искренне полагает, что продлила себя в бесконечности, в детях. Чего, безусловно, заслуживает. Да еще и назло конкурентам. Bellissimo! Но сам индивидуум со смертью заканчивается, по крайней мере, в привычном ему, земном качестве. Так как лишь 50% генофонда он передал своим детям и они теперь - новые индивидуумы, уникальное сочетание случайно отобранной половины материнского генофонда с отцовским. Причем, каждый ребенок. Никогда кроссинговер не дает одинаковых результатов. Хорошо также генам - половина из них продолжится в следующем поколении. Еще какой-то набор сохранится следующим ребенком, третьим и так далее. С точки зрения особи, чем больше детей, тем лучше. Невзирая на то, что не все прямые потомки унаследуют какие-то внешние, работающие у них качества предка. Ген карих глаз, например, сильнее, чем ген голубых и лишь при наличии этого гена в обеих родительских хромосомах глаза получаются голубыми. Но эмоциональный выигрыш при виде ребенка, цветом глаз и талантами и прической похожего на родителя так велик, что индивидуумы продолжают производство потомства, находя в этом дремучее, пришедшее из глубин веков удовольствие. Но по-настоящему хорошо все же генам. Ведь они путешествуют не в одной лишь семье исключительно. Популяция вцелом гораздо надежнее, куда более гарантированно доставляет гены к бессмертию, ведь все особи заданной популяции в текущий отрезок времени обладают схожим набором генов. Еще надежней работают виды. Редко случается вымирать целому виду, когда вместе с ним безвозвратно теряется и уникальная часть планетарного генофонда. Настоящие путешественники во времени, долгожители - гены, в пух и прах обставляют своих недолгоживущих носителей в игру с названием выживание. Мы бы и сами могли быть бессмертными. Наши клетки делятся и таким образом, совершив полный цикл замены старых клеток на новые, организм обновляется полностью. У человеческих особей такой цикл занимает четыре года. Старые клетки разрушаются и идут на корм новым. Если представить себе многоклеточный организм, сотканный из тканей различного типа, совершенный, законченный, адаптированный к любым неожиданностям и изменчивости внешней среды, вознамерившийся продолжать существование вечно, созданный с этой целью, нужно бы было признать, что никакие внутренние механизмы старения такой особи не понадобились бы. Если бы эволюция шла по такому пути! Была инженером, работающим над поиском идеальной конструкции, достойной жить в вечности. Но сегодня, на практике природа вот так не работает. Во всем живом на нашей планете сегодня заложены механизмы старения. Малоизученные механизмы, заставляющие наши клетки с возрастом замедлять процессы деления, синтез белков, игнорировать повреждения в ДНК, приводящие к новым ошибкам на очередном этапе деления и раз за разом протаскивать в следующее поколение клеток все более искаженное и нежизнеспособное представление о том, как должна быть устроена, собственно, клетка - неверный геном, одним словом. Такие дефектные клетки расцениваются иммунной системою, как угроза и в конце концов устраняются. С течением времени старых клеток становится больше и больше, они испускают в окружающее их пространство особые сигналы - молекулы, механизм действия которых на прочие клетки еще не изучен, но в общем, понятно уже, что едва представляет из себя что-то хорошее и полезное. В основе своей биохимия жизни работает и могла бы работать неограниченно долго. Внутри самой клетки и в связях, позволяющих им жить совместно природой придуманы и отточены необходимые механизмы продления жизни - деление клеток и репарации ДНК - исправления ошибок копирования или случайного повреждения её отдельных участков. Тем не менее, той же природою внедрены дополнительные, сдерживающие механизмы. В глубине своих тел, в самых клетках мы носим оружие с часовым механизмом. При рождении часики принимаются тикать, начинают обратный отсчет. Пытаться жить вечно с таким, вот, подспорьем - это почти тоже самое, что ехать на велике с палкой в колесах и с цепью, забитой глиною. Причем глиной, постоянно густеющей, проникающей глубже и глубже, разъедающей сам металл привода. С колесами, постоянно черпающими новые порции яда и мусора. Борьба с подобным врагом не ведет к достижению цели, а вступая в нее мы можем лишь уподобиться черепахе из школьной задачи, которая за каждый последующий шаг проползает расстояние вдвое меньшее предыдущего. В половозрелый период разрушительные механизмы не проявляют активности. Юной особи еще предстоит разобраться с задачей передачи своего генофонда и для этого она должна оставаться здоровой. Ну, и как минимум выжить - дотянуть до момента производства потомства. После этого - хоть потоп. Самка Чёрной вдовы после спаривания съедает самца, его миссия выполнена и незачем ему теперь гулять по свету, потребляя за так те ресурсы, что могли бы достаться потомству. Лосось спешит вверх по течению, сдирая кожу о камни, сопротивляясь потоку, чтобы, оставив икру в тихой заводи, наконец-то расслабиться и отдаться на волю стервятникам. Но даже такой защищенный, изнеженный и размякший вид, как человечество, не может похвастаться долговечностью, несмотря на мирную жизнь и удобную обувь, ненатирающую одежду и научные достижения. Что мешает жить вечно и стоит на пути долголетия? Гены, хозяева жизни. По каким-то причинам им просто невыгодно оставаться за веком век в одном теле. Они выдумали размножение и механизмы случайного смешивания - обновления генофонда. Сама по себе хромосома не является чем-то цельным, законченным. Это просто компания генов, случайно собравшихся здесь и сейчас в результате перетасовки колоды. Еще одна пробная комбинация плюс результаты мутации. Но даже если компания получается эффективной, лишь половина ее перейдет по наследству. Эволюция совсем не нацелена на выживание особей или их совершенствование. Минимально достаточный уровень приспособленности, позволяющий передать свои гены - все, на что мы можем рассчитывать. Истинной целью является выживание хромосомного алфавита. Такая, вот, Игра в бисер. Что заставило буквы этого алфавита собираться в колонии, чтобы действовать вместе? Хаотичное притяжение, реальная выгода или гонка вооружений, развернувшаяся между первыми видами. Почему так удобнее и удобнее ли? Сложный геном, порождающий биохимию многоклеточного организма сталкивается, конечно, и с большими препятствиями на пути продолжения вида. Почему эволюция не успокоилась на бактериях? Они условно просты, многочисленны, выживают в дичайших условиях и легки в производстве - копировании. И разнообразие видов зашкаливает. Отчего все - не бактерии? С точки зрения выживания гена бактерия - идеальный контейнер. От 40 до 8000 генов у безъядерной клетки и высокая скорость деления. Зачем природе потребовалось идти дальше и делать больше? Совершенствовать внутренность клетки и наращивать мускулы. И придумывать динозавров размером со здание и маленьким мозгом и человека со слабой сопротивляемостью к различного рода болезням и беспрецедентно прожористым мозгом, потребляющим 25 - 50% поступающей внутрь энергии. Ненаучное, может быть, объяснение. Романтическое. Но мне кажется, что где-то еще глубже молекулы, на непредставимо таинственном уровне, в самой сути природы заложена жажда развития и познания. Недовольство достигнутым. Так что не стоит уж слишком завидовать и сетовать на свою роль в эволюции. Мы проводники чужой воли и машины бессмертия, на коих древние репликаторы путешествуют к своим давнишним целям. Когда-то рвануло, задвигалось, возник некий импульс и жизнь во вселенной обрела новый смысл. Мы же только вместилища, наделенные внутренней силой, мотивы поступков которой едва ли способны постигнуть. И нас вообще не спросили, желаем ли мы в этом участвовать. Но. Есть оборотная сторона. Мы неизбежно наследуем, будучи вовлеченными в выживание принципиальные качества тех кирпичиков, из коих мы собраны. Жизнелюбием и привязанностью к потомкам, стремленьем к борьбе, непоседливостью мы обязаны этим кирпичикам, возжелавшим когда-то бессмертия. Осчастливленный индивидуум, замечающий сходство в ребенке со своими чертами лица и характера, собирающий их фотографии или строящий дом, будь то жилье человека, гнездо или, например, муравейник побуждается к этим действиям генами. Мы просто таки запрограммированы испытывать радость при виде смеющегося ребенка и делиться с потомком добычей, тащить к дому пищу. Раскрытые рты родных птенчиков стимулируют взрослую особь добывать пропитание, взывая к инстинкту кормления. Если рты подкрепляются писком - отклик взрослого организма усиливается. Выбрав путь усложнения, природе пришлось выдумать и более сложные способы регуляции поведения, побуждения особей к тем или иным эволюционно направленным действиям. И теперь мы имеем эмоции - очень сложные по своей биохимии механизмы взаимодействия эндокринной и нервной систем организма. Крошечный отдел промежуточного мозга, названный гипоталамусом, контролируя нервные импульсы, посылает в гипофиз порцию нужных гормонов, запускаемых далее в кровь, и нас накрывает восторг, эйфория, когда летим с горки на лыжах, страх при бегстве от тигра и счастье, когда у нашего новорожденного глаза, как у мамы. Заболевший ребенок мобилизует родительский организм и переживаемый страх за будущее и здоровье потомства дает ему силы бороться с инфекцией. Поступающие в кровь эндорфины во время сражения или бегства от хищника приводят к снижению болевого порога и дают силы особи выжить, не обращая внимание на боль и не страдая от получаемых повреждений. Отлично известно поверье, что давно голодающий волк в погоне за жертвой или при столкновении в ходе этой погони не чувствует боли. А корректнее было б сказать - не обращает внимания. Ну, какое-то время. Страх, радость, отчаяние и волнение, нетерпение и влюбленность, а другими словами - эмоции - новый уровень эволюции, отличающий нас от бактерий. Любая из них предназначена для управления эффективностью и конкурентоспособностью особи, изначально игравшей лишь роль переносчика репликаторов из поколения в поколение. Радость при виде успешных потомков - это радость природы, убедившейся в продолжении генной линии, а стремлением испытывать подобную радость мы обязаны генам, основавшим эту древнюю линию, начало которой теряется в глубинах истории и роднит нас с первыми репликаторами, единственной целью которых являлось устойчивое самокопирование. Тревога за голодающего ребенка гарантирует выживание следующего поколения. Бабушка, перекармливающая внучка стремится загладить ошибки, допущенные в процессе заботы о собственных прямых потомках, и часто предпринимает слишком много усилий, с одной стороны понимая, что не имеет над вторым поколением такого исключительного контроля, как над первым и используя для заботы любые удобные случаи. С другой же, закладывая во внука ресурсы “на будущее”, так как, наверное, скоро лишится этой возможности. Наградой за увенчавшиеся успехом усилия является чувство спокойствия, гордости - теперь помереть не так жалко - и смирившись с отсутствием собственного бессмертия, мы переносим надежды на внуков и правнуков, умом понимая свой личный проигрыш, но глазами и чувствами уповая на сильное и здоровое продолжение. Хитроумные репликаторы устроились в нас таким образом, что мы до последнего вздоха из кожи вон лезем, стараясь гарантировать будущее столь отдаленное, сколь только можем. Эволюция наградила носителей генетической информации массой причудливых способов отражения окружающей их действительности, борьбы за сохранение генофонда. И немалую роль в этих запутанных правилах поведения играют эмоции - результаты взаимовлияний нервной и эндокринной систем организма. В стрессовой, неожиданной ситуации, требующей незамедлительного принятия решения, гормональные механизмы приходят в движение и запускают цепные реакции производства необходимых белков, поступающих в кровь - переносчик медленной информации в организме. Там, где не справляется гормональная регуляция приходят на помощь и нервные импульсы, со скоростью света доносящие информацию в мозг и обратно, к периферическим окончаниям, и руки и ноги ускоряют движения, дыхание учащается, мускулы насыщаются кислородом и сокращаются все быстрее. Животное переживает эмоцию - страх, эйфорию, желание драться за жизнь или же отступать, спасая жизнь бегством. Эмоциональная регуляция не только подстегивает существо к скоростному принятию решений, но помогает сориентироваться в обстоятельствах, выбирая подходящий стиль поведения. Соответственный его виду, времени года, состоянию здоровья и окружению. А опыт и аналитический механизм - мозг с нервной системой - оценивают шанс на успех той или иной стратегии. И страус зарывает глаза в песок, ящерка жертвует частью тела, избегая угрозы потери всей жизни, и даже волк отгрызает угодившую в капкан неосторожную лапу. Все подобные действия - нанесения прямого урона, парадоксально способствующего выживанию особи - возможны лишь у высокоразвитых организмов, знающих цену жизни, держащихся за эту жизнь, стремящихся ее продолжить, и ведающих страх смерти - окончания жизни. Помечая свою территорию, выбирая одежду, совершенствуя очертания муравейника или, скажем, затрачивая отнятые у здорового сна часы на тщательное выкрашивание ресниц и наложение тонального крема, мы стремимся расширить влияние гена, изначально трудившегося лишь в пределах порожденного им организма. Репликаторы не довольствуются клеточными границами, индивидуальные комбинации генетических предложений проявляют себя все дальше, протянув свои длинные руки в окружающую действительность, продлевая себя за пределами тела. Обустраивая берлогу, собирая ветки и мох для строительства, особь отталкивается все от тех же особенностей и возможностей, заложенных в ней генетически, что и при выращивании собственных глаз или крыльев. Гнезда птиц одного вида лишь с первого взгляда кажутся идентичными. Как и окрас яйца кукушки, к примеру, но какие-то особенности рисунка на его внешней поверхности могут дать незначительный выигрыш - оно больше придется по нраву приемным кормилицам, а чуть более длинные веточки, выбранные родителями при строительстве не дадут птенцам вывалиться из родного гнезда. Вереница следов на песке, частота их последовательности или среднее отклонение, яркость пятен на крылышках, право/левозакрученность ракушки - все эти видимые проявления, фенотип, продолжают экспансию гена в действительности, награждая носителей признаками, отличающими их соперников, превращая возможность в кинетику. И не одним только красочным оперением, переносицей, приспособленной для дыхания жарким воздухом, жалом, жгутиком и клыками, но и самими руками и произведенными ими строениями и орудиями продолжаются поколения. Замкнутая в клетке молекула ДНК, состоящая временами из миллионов нуклеотидных словечек, наживается на механизмах прочтения, репарации и деления. Совершенствует их, механизмы, к своей вящей выгоде, удлиняя свою протяженность повторами и бессмысленными предложениями, не награждающими организмы фенотипическими эффектами. ДНК занята выживанием внутри клетки. Транскрибирование отдельных участков либо ведет к построению работающего белка, либо нет. Но фрагмент существует, занимает позицию. У млекопитающих, сложных видов, мусорная часть ДНК - основная часть генотипа. С точки зрения выживания организма ее назначение - цементирование полезной части генома, обеспечение целостности и сохранности информативных участков. Чем более многочисленными и протяженными являются бесполезные части, тем менее вероятен разрыв полезных участков при кроссинговере. Повторения однотипных фрагментов - еще один уровень защищенности. Но при кажущейся сообразности такого решения для выживания особи оно вовсе не выглядит столь уже очевидным с точки зрения самой ДНК. Она ни словом ни духом не ведает о всех далеких последствиях своей сложности - фенотипических проявлениях, разнообразии и хитросплетениях жизней порождаемых ей организмов. Выживает та ДНК, которая находилась в выжившем организме. Но как именно - ей неведомо. Фенотипические свойства особи, приведшие ее к победе - опосредованное проявление генотипа. ДНК не заведует поведением носителей, она задает только правила. Результат - дело случая и влияния многих факторов. Достоверно лишь то, что отдельные вариации ДНК сохраняются, путешествуя в выживших линиях. Выживают, не ведая, что творят, самозабвенно стараясь в условиях клетки. Жизнь ДНК подобна работе отдельно взятого инженера, конструктора, программиста, трудящегося над своей частью задачи в масштабном проекте, не осведомленного о целях проекта, не осознающего своего места в проекте и не знающего того, будет ли его вклад включен в итоговую систему, иль останется отбракованным в результате тестирования - отбора. Правда, автор хорошей работы может надеяться, что при следующей итерации его вовлекут в процесс снова, даже если не все его результаты признаются полезными. ДНК представления не имеет про жизнь за пределами клетки. Все ее интересы ограничены выживанием в этом крохотном мире, крохотном с точки зрения многоклеточного организма. Разделение клетки с воссозданием копии для нее - то же самое, что для нас - появление потомства. Произведя на свет оное, мы теряем с ним тесную связь и абсолютное понимание, теперь все внутренние процессы нового организма уж отрезаны от родительского и связаны с ним только косвенно. И как бы нам этого ни хотелось, мы физически не в состоянии заглянуть внутрь сознания потомка, ощутить, разделить его страхи и чаяния, поддержать в дни болезни. Материнское молоко на первых днях жизни способствует передаче иммунного опыта от родительского организма к потомку - дитя появляется в мире стерильным, не имеющим личного опыта взаимодействия с бактериями, противостояния вирусам и прочим многочисленным способам проникновения чужеродного ДНК. По мере развития ребенок становится восприимчивым ко все более опосредованным, сложным мерам взаимодействия с отделившим его родительским организмом. Он копирует поведение родителей, речь, словарный запас и традиции. Стараясь привить правильные привычки, мы делимся с ним своим опытом, взглядами, навыками в управлении своей самостью и выживания в окружающем мире. Опуская бесспорную истину, состоящую в том, что ребенок - отдельная личность, устроенная иначе, мы - сознание и эволюция - разрабатываем меры расширенного, опосредованного воздействия на потомков, стремясь, насколько возможно обеспечивать непрерывность влияния на последующие поколения - культуру и мифологию, методики воспитания. Мы рассказываем им на ночь сказки, услышанные в собственном детстве. Мы напеваем им песни. Что-то далекое, смутное приходит на память в минуты общения с ребенком. Каким-то загадочным образом мы знаем, как взять его на руки и какую избрать интонацию, а когда приходит пора поделиться умением, знанием мы оставляем в сознании потомка принятый в свое время опыт, отложившиеся в голове истории и традиции. Как и белковая составляющая, мифы - отраженный в изустном предании генетический опыт - путешествуют из поколения в поколение, даруя носителям силы и мудрость, не хуже иммунной системы врачуя и оберегая от всевозможных болезней, ошибок. Миллион лет или около понадобился человечеству, чтоб перестать оперировать примитивными связями между нуклеотидами и выйти на новый уровень, надорганизменный. Миф, культура, предание - куда более приспособленный к выживанию элемент эволюции. Безусловно не связанный со смертной и уязвимой материей, существующий как бы без жесткой зависимости от конкретного вида, среды или племени. От первого подзатыльника - до системы Макаренко или коэнов дзен-буддизма, от первой спонтанной линии, нарисованной не стенке пещеры до Босха, Куинджи, от нечленораздельного звука, мычания иль боевого призыва - до Паворотти и Beatles, от первой истории, рассказанной у костра соплеменникам - до Пушкина, Гёте и Достоевского. Вездесущая, вечная, близкая и неуловимая категория мифа объясняет иначе феномен жизни, показывает, что не молекулы соревнуются меж собой, они - материал, как и прочие - книги, эфир или стены строений, они просто механика. А мифотворчество - больше, чем просто расширенный фенотип, оно уже сфера совместных усилий материи, духа и времени, синтезированного организма, одинаково относящегося как к миру видимому, так и к невидимому. Человеческий индивидуум появляется, наделенный сознанием, с уникальной наследственностью. Не встречается в мире одинаковых отпечатков пальцев, одинаковых радужек, как не встречается и одинаковых личностей, мы рождаемся неповторимыми. Обладали ли наши дальние предки, холодные рыбы, душой или разумом? В лучшем случае - зрением, нервной системой. А предыдущие формы жизни не додумались и до этого. Отличались ли ранние флора и фауна там немыслимым разнообразием не только форм, видов, но и внутривидовых различий, не только тем уровнем сложности, с каким мы имеем дело сегодня, но и серьёзным разбросом и гено- и фенотипов от особи к особи? Миллионы лет повторений, череды поколений и усложнений понадобились для того, чтоб получить эту пеструю ткань биосферы и в конце концов дорасти до существ, обладающих самосознанием. Ведь и Сын Человеческий стал возможен лишь после весьма скрупулезной селекции рода-племени, подходящего для Его рождения. Потопы, скитания и лишения, поиск новых земель и культура, религия помогли эволюции взрастить то окружение, тех родителей, которые оказались уже достаточно зрелыми, чтоб воспринять эти новые правила, эту благую весть и усвоить её, и обрадоваться, и смириться, подарить, наконец, человечеству достойное Его воплощение. Война между верой и знанием пришла, наконец, к завершению. Противоречие разрешилось. Эволюция и творение - два аспекта действительности, с точки зрения вечности все свершилось, с точки зрения времени мы существуем в процессе творения, инструмент для которой и есть эволюция. Ну, а сфера творения - сфера мифа, как питательная среда, атмосфера дает жизнь проявлениям в виде личностей, организмов, их поддерживает и притягивает, и чарует, воспитывает, и дает представление о начальном прообразе для любого творения - вечности.
Я хотел сочинить свою сказку. Понуждаемый вечным стремлением делать, а сделав - поведать и обрастить рассказ вымыслом. Не из желания переврать ход событий - всилу свойств человеческой памяти, по природе своей субъективной. Так устроено наше сознание, мы легко верим образам, мифам, нам нет дела до фактов, дат, цифр. Настроение, сказка, история - вот язык человечества. Нам мало узнать и запомнить, нужно большее - нафантазировать. Переплавить события в образы. Мало нам - получить впечатление, нужно его приукрасить и выпустить. Хоть слегка приобщиться к реальности, где в чуде нет ничего удивительного, где любой кафтан по плечу, где и ты - существо мифическое, окруженное страною чудес. Где предания путешествуют от сказителя до сказителя, от участника к зрителю, где из Слова рождается действие, а из мысли - действительность. По пути в Соезерье я ловил себя на одной и той же мысли - как жалко, что все эти красоты, открытия, впечатления происходят со мною одним и никто не вдыхает со мной эти радости, этот воздух, насыщенный хвоей, песком, самой свежестью. Эти камни хрустят под колесами, эти россыпи ягод на кочках, это синее небо и глина, изнуренные мышцы и сладость движения, вкус воды, проржавевшей в болотицах, ручейки между сосен. Как хотелось бы мне рассказать обо всей беспредельности, разноцветности видимого, а еще - дать прорваться той части невидимого, что стоит здесь за каждым усилием, за стеною дождя, шевелением ветра. Рассказать, как же важно попробовать заглянуть хоть за краешек той волшебной завесы, отделяющей повседневное от незримого, как же важно прийти к ней своими усилиями и для этого - выбираться почаще из комнаты. октябрь 2016 - август 2019 Дополнительные материалы Верхняя Тойма: Авнюгская узкоколейная железная дорога Народный каталог православной архитектуры Дорога на север. Москва — Архангельская губерния. Субстратная топонимия русского севера и мерянская проблема Энциклопедия узкоколейных железных дорог бывшего СССР: Авнюгская УЖД Заповедные железные дороги: Авнюгская УЖД Сайт о железной дороге: Авнюгская узкоколейная железная дорога | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)




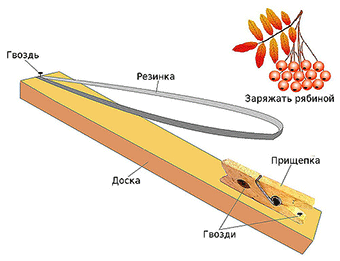
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)